Пьеса для двух инструментов. Как зарождалась Пулковская обсерватория?
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Гравюра Гоберта, 1839
Чтобы понять, что значит астрономия для нас сегодня, достаточно почитать телевизионную программку/посмотреть новости — передачи и сюжеты о Вселенной и космосе фактически ежедневны. Или можно зайти в Интернет — многие информационные и даже поисковые сайты завели у себя особый раздел, посвященный звездам и планетам; огромна и специально-астрономическая часть мировой Сети.
А еще (и тут нам с вами в отличие от иногородних особо повезло) можно сесть на автобус и приехать в действующую обсерваторию. В Пулковскую, знаменитую на весь мир. Основанную Василием Струве, в честь которого 15 апреля здесь открыли мемориальную доску. Научные достижения, история, архитектурный комплекс, Пулковский меридиан, три некрополя, сам этот холм всего в 19 км от Почтамта на юг — все есть достояние Отечества. И объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Очередь на сотню метров стояла в обсерваторию все четыре дня в апреле, когда в честь Года астрономии здесь устроили дни открытых дверей. «Мы едва справились с наплывом людей», — говорит директор пулковского музея Сергей Васильевич Толбин, но чувствуется, что ему чрезвычайно приятен сей факт.
А с осени всем интересующимся астрономией просто-таки нужно спешить в Пулково снова. После десятилетней реставрации открыт один из двух Меридианных залов, в котором установлены — на своих местах! —два уникальных, просто удивительных экспоната: Большой пассажный инструмент Эртеля-Струве и Большой вертикальный круг Эртеля-Струве. Их реставрация, как и воссоздание интерьера, стала возможна благодаря грантам Министерства культуры.
Всего основных меридианных инструментов было четыре. Один разобран еще до войны, но его прекрасный объектив сейчас стоит на телескопе, который находится в центральной башне главного здания и показывается всем экскурсантам. А еще один, так называемый Меридианный круг Репсольда, в 1955-м уехал в Николаевскую обсерваторию (филиал Пулковской) работать, а в 2002-м после всей возможной реставрации стал экспонатом музея. Сама Николаевская обсерватория в прошлом году включена во временный список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
Забегая вперед: прежде всего именно эти созданные Струве и мастерами Германии меридианные инструменты, «соавторы» знаменитых фундаментальных Пулковских каталогов звезд с координатами, позволили всего через тридцать лет признать обсерваторию астрономической столицей мира. Заложенные в этих инструментах принципы повторялись потом всюду. А сами они работали на российскую и мировую науку около 160 лет, вплоть до самого конца XX века. Уму непостижимо. Беспрецедентный случай в истории астрономии, а может быть, и вообще в истории подобной сложной техники. Вероятно (размышляет директор музея Толбин), его стоит занести в « Книгу рекордов Гиннесса».
Фото Zoltan Tasi
Hire on Unsplash
Теперь западный зал восстановлен и стал частью музея, восточному предстоит после возрождения служить библиотеке. С конца 1970-х залы пустовали, пришли в упадок; в конце 1980-х хотели полностью их уничтожить, чтобы построить здесь двухэтажные помещения (об искажении памятника архитектуры думали мало). Уже пошла общая разборка, вот куда-то и исчез паркет, лиственничная отделка стен, механизмы раздвижения створ и штор, пропали настенные светильники... — дело остановила «разборка» эпохи. Десять лет стояли руины.
Лишь после ужасных происшествий 1996 — 1997-х годов — ограбления музея и пожара в научной библиотеке — весь архитектурно-ландшафтный комплекс Пулковской обсерватории указом президента был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России, и постепенно началось восстановление Меридианных залов.
Они были особенные. Кроме раздвижных створ еще тем, что представляли собой металлические конструкции, обшитые листовым металлом же. И еще — инструменты стояли на уникальных фундаментах, которые стоит показывать экскурсантам. Точность астрономических наблюдений требует абсолютной неподвижности. Поэтому фундаменты строились мощнейшие — в форме усеченной пирамиды, их общая высота достигала восьми метров,а основание было три метра на двеннадцать. Сверху клали гранитные плиты,на них устанавлмвали опоры — для каждого инструмента свои. Ни основные фундаменты, ни эти столбы-опоры не соприкасались с полами на балках, опирающихся на фундаменты отдельные. Чтобы нечаянная вдруг вибрация одного инструмента не сказалась ни на каком другом.
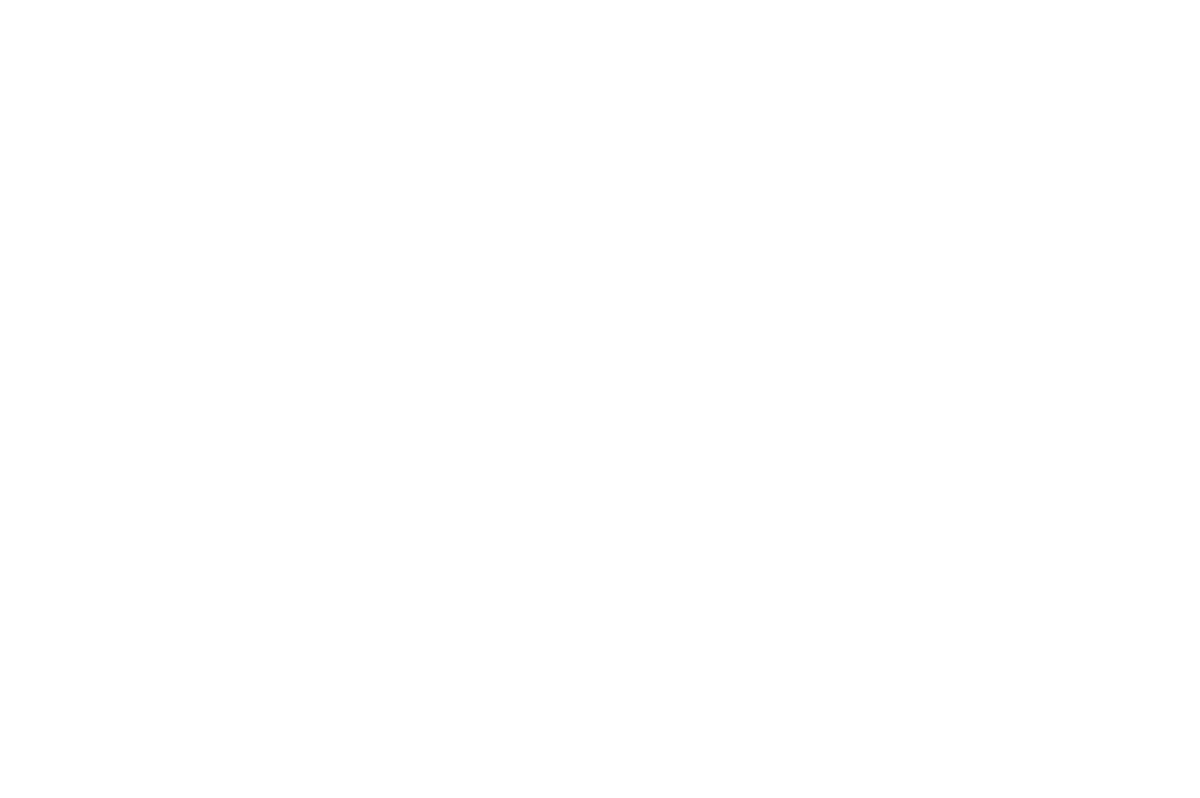
Фото Robin Jonathan Deutsch on Unsplash
Итак, главные меридианные инструменты были установлены к открытию обсерватории в 1839 году: один в Восточном зале, два в Западном и еще один — в Южном павильоне (примыкал к главному зданию). После героического восстановления разрушенной боями Пулковской обсерватории они вернулись к работе; а в 1976-м два классических инструмента, о которых сегодня речь, отправились для высокоточных наблюдений Солнца и планет на Горную станцию под Кисловодском — новую астрометрическую базу Пулковской обсерватории.
В марте 1989-го Большой пассажный инструмент Эртеля-Струве и Большой вертикальный круг Эртеля-Струве признаны памятниками истории науки и техники, что дало им защиту государства. В самом начале нового века, после сложнейших 1990-х, их сумел подготовить к переезду и доставить в Пулково нынешний заместитель директора по науке Александр Вячеславович Девяткин, который и заведовал этими инструментами в Кисловодске, и вел наблюдения.
Реставрация, понятно, была непростым делом. Все 160 лет инструменты работали, и никто никогда не смотрел на них как на памятники. В войну эти тончайшие вещи были разобраны и вроде даже просто закопаны, из-за чего что-то где-то погнулось, где-то вмялось, где-то покрылось плесенью. Приспосабливая инструменты для новых и новых задач, в них безжалостно сверлили дырки для проводов. Случались и большие травмы; например, кому-то показалось, что трубы недостаточно жесткие, к ним приварили металлические уголки, пошло окисливание. Часть деталей оказалась утеряна, другая подверглась «модернизации».
Фото Nathan Anderson on Unsplash
А несколько портретов, заказанных еще самим Струве, уже висят. И мы видим интересные лица искусника Траугота Леберехта Эртеля, братьев Адольфа и Георга Репсольдов... Между прочим, вы помните, что механиков того времени называли художниками?
Года три-четыре назад из Европы приехали в Пулково полсотни человек — из общества любителей старинной астрономической техники, с ними была директор музея Гринвичской обсерватории. Надо полагать, их новый вояж не за горами.
Вам осталось спросить, уважаемые читатели, почему юбилей Пулковской обсерватории отмечается так тихо: нет торжественного заседания в каком-нибудь колонном зале, приветствий и наград, теплых слов с Международной орбитальной станции, фейерверков в августовском небе? Да потому, что праздник перенесли на осень. Но состоится ли он вообще, не очень понятно.
Академия наук пребывает в стадии реформ, вызванных тем, что страна, скажем так, экономит. Это еще глубоко докризисные вещи — двадцать лет Россия, к примеру, не строит крупных телескопов. От советской системы финансирования науки и культуры ушли, к западной не пришли. Страдает, и сильно страдает, в частности, астрономия. Достояние Отечества Пулковская обсерватория, продолжая отбиваться от разных проектов по захвату территории, ждет решения своей участи, работает на мировом уровне и просит правительство вернуть научное миропонимание в школы.
«Есть ли жизнь на Марсе? — многозначительно спрашивал герой фильма « Карнавальная ночь» и отвечал: — Науке это неизвестно!» Но, оказывается, науке по сей день неизвестно, что такое жизнь на Земле!