Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
полина Виноградова
«Никому ничего не навязывать».
Архивное интервью с Евгением Евтушенко
Архивное интервью с Евгением Евтушенко
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Emmanuel-Ikwuegbu on Unsplash
Дата публикации: 21 октября 2024
Поэт долгое время жил за рубежом, но он никогда не разрывал духовную связь с Родиной. Он часто приезжал и в Петербург. Накануне творческого вечера, который состоялся 20 мая 2009 года в Академической капелле, Евгений Александрович Евтушенко ответил на вопросы корреспондента Полины Виноградовой.
- Написав «Поэт в России - больше, чем поэт», вы подразумевали, что творец — прежде всего гражданин, голос своей эпохи. Листая сборники современной поэзии, можно подумать, что форма для новых сочинителей намного важнее содержания, а творческая смелость совсем не связана с гражданской позицией. Получается, что поэт больше не обязан быть гражданином?
— Осторожней со словом «обязан». В нас это слово много лет впихивали насильно, как одну и ту же кашу, да еще не ложечкой, а половником. Некрасов в этом не виноват. В стране Обязанностей, где никто не знал своих Прав, никому даже в голову не приходило, когда в любое время суток в его квартиру могли ввалиться с обыском, пафосно воскликнуть: «Я буду разговаривать только в присутствии моего адвоката!». Да и сейчас даже олигарх, если за ним придут, вряд ли это воскликнет. Некрасовское выражение опошлили до того, что, я помню, на стадионах висело: «Спортсменом можешь ты не быть, но физкультурником обязан!».
Быть гражданином в сталинское время также значило проголосовать до двенадцати часов дня. Я в сталинское время был агитатором и помню, как приходилось ходить и будить, чтобы на моем участке «голоснули» раньше, чем на соседнем. Гражданственность была синонимом беспрекословного подчинения. А на самом деле она должна быть синонимом совести.
Великая Отечественная была огромным народным горем, но в то же время она подняла нравственность народа, потому что гражданственность не противоречила совести, и кто-кто, а ленинградцы это знают. У великой ленинградки Ольги Берггольц ребенка из живота на допросах выбили. Но она встала над своей личной трагедией, помогла родному городу не сдаться, выстоять.
Когда разбомбили ленинградский радиокомитет, нужно было найти большую квартиру под временную студию. А в это время все качалось на весах: сдавать или не сдавать Ленинград (были и такие мысленки). Не все обладатели больших квартир обрадовались. Кто же не испугался? А Михаил Михайлович Зощенко, он свою квартиру немедля предложил. А кто же выступил с призывом не терять духа? Анна Андреевна. А кто вел репортаж? Та самая Оля Берггольц, у которой первого ее мужа, написавшего «Вставай, вставай, кудрявая...», убили...
Это все старые ленинградцы, конечно, и без меня знают, но я это молодым поэтам напоминаю... Ну что ж, нам войну для них новую устраивать, чтобы они гражданственность к себе ощутили? Может, как-нибудь без войны обойдемся? А их поэтическое поколение о чеченской войне, давайте будем честны перед собой, практически промолчало, хотя много их ровесников там погибло. Разве они не должны были сказать свое слово? Почему об этом твердит годящийся им в отцы Евтушенко...
Быть гражданином в сталинское время также значило проголосовать до двенадцати часов дня. Я в сталинское время был агитатором и помню, как приходилось ходить и будить, чтобы на моем участке «голоснули» раньше, чем на соседнем. Гражданственность была синонимом беспрекословного подчинения. А на самом деле она должна быть синонимом совести.
Великая Отечественная была огромным народным горем, но в то же время она подняла нравственность народа, потому что гражданственность не противоречила совести, и кто-кто, а ленинградцы это знают. У великой ленинградки Ольги Берггольц ребенка из живота на допросах выбили. Но она встала над своей личной трагедией, помогла родному городу не сдаться, выстоять.
Когда разбомбили ленинградский радиокомитет, нужно было найти большую квартиру под временную студию. А в это время все качалось на весах: сдавать или не сдавать Ленинград (были и такие мысленки). Не все обладатели больших квартир обрадовались. Кто же не испугался? А Михаил Михайлович Зощенко, он свою квартиру немедля предложил. А кто же выступил с призывом не терять духа? Анна Андреевна. А кто вел репортаж? Та самая Оля Берггольц, у которой первого ее мужа, написавшего «Вставай, вставай, кудрявая...», убили...
Это все старые ленинградцы, конечно, и без меня знают, но я это молодым поэтам напоминаю... Ну что ж, нам войну для них новую устраивать, чтобы они гражданственность к себе ощутили? Может, как-нибудь без войны обойдемся? А их поэтическое поколение о чеченской войне, давайте будем честны перед собой, практически промолчало, хотя много их ровесников там погибло. Разве они не должны были сказать свое слово? Почему об этом твердит годящийся им в отцы Евтушенко...
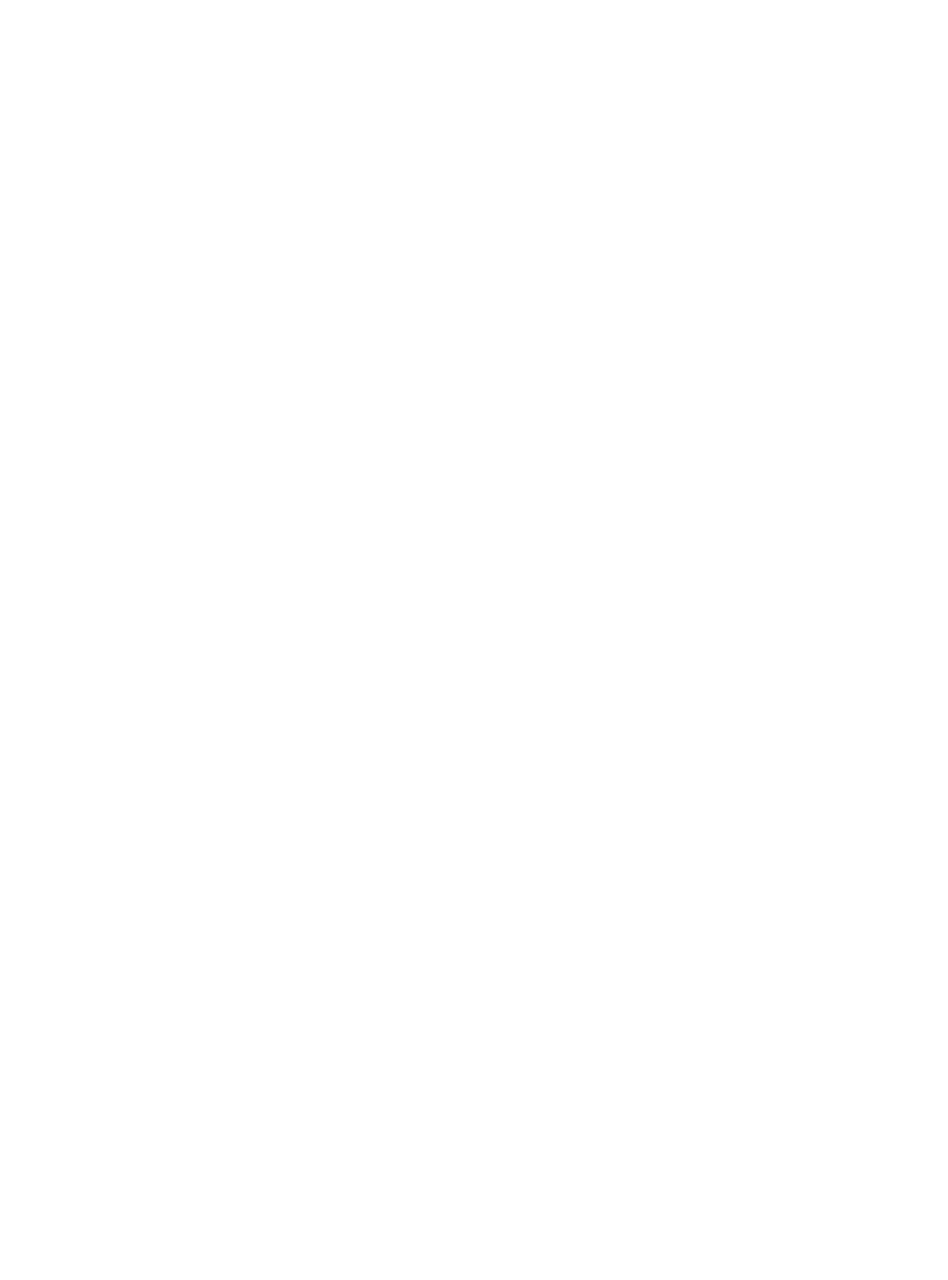
А вот фронтовик Юрий Левитанский не промолчал, даже получая из рук Ельцина Государственную премию: прямо в лицо сказал, что войну эту кончать надо. И еще раз потом одиноко сказал, и сердце не выдержало... А были бы рядом молодые, которые бы его поддержали, может быть, остался жив и множество еще хороших стихов написал.
Поэты не делимы на стариков и молодых, они все молоды, но тяжелеют, грузнеют духом, теряют искру во взгляде. Поэты не только вдохновляются, но и вдохновляют других на добрые дела, благородные поступки. Только одними обязанностями не вдохновишь. Самое страшное самоосквернение — это когда вдохновляются только деньгами. У таких людей самодовольство только показное: заглянешь к ним в глаза — спрятаться пытаются, затравленно мечутся... В стихотворении о Самойлове я написал:
Не надо делать подлости
Хотя б из эгоизма.
Поэты не делимы на стариков и молодых, они все молоды, но тяжелеют, грузнеют духом, теряют искру во взгляде. Поэты не только вдохновляются, но и вдохновляют других на добрые дела, благородные поступки. Только одними обязанностями не вдохновишь. Самое страшное самоосквернение — это когда вдохновляются только деньгами. У таких людей самодовольство только показное: заглянешь к ним в глаза — спрятаться пытаются, затравленно мечутся... В стихотворении о Самойлове я написал:
Не надо делать подлости
Хотя б из эгоизма.
— Многие согласятся, что читать стихи труднее, чем прозу. Чтобы понимать поэзию, чувствовать музыку стиха, нужна особая душевная восприимчивость. Не потому ли сегодня поэзия так мало популярна, что новое поколение утратило эту душевную чуткость?
— Неправда, что все новое поколение утратило душевную чуткость. Сейчас из поэтов XX века самый читаемый поэт — Марина Цветаева. Ее портреты и книжки можно увидеть и в студенческих, и в рабочих общежитиях; ею зачитываются даже школьники, а ведь ее душа обнажена до предела — самый чуткий инструмент. Трагедия сегодняшней поэзии во всех странах, в том числе и в нашей, не в том, что не хватает гражданственности. Не хватает человеческой эмоциональности. В эмоциях, которые в тебе вызывает та или иная проблема, уже есть гражданственность. Гражданственность и в то же время личная исповедь...
— Должна ли поэзия быть злободневной, как сейчас принято говорить, актуальной?
— Осторожней и со словом «должна», со всеми глаголами, в которых есть элемент заставляния... Хорошо бы сейчас злобой дня стала доброта вечности. Но только не надо никому ничего навязывать. Мне очень нравятся рифмованные фельетоны Дмитрия Быкова — школа мастерства в этом жанре. Он прямо-таки наслаждается, описывая своих голубчиков-героев...
— «Цинизмом все лучшее в мире увечится» — слова из вашей поэмы «Братская ГЭС». Много ли таких «увечий» случилось с тех пор, как вы написали эту поэму?
— Самый главный цинизм, который развился в последнее время, — это абсолютно необременительное для совести предательство самого себя и окружающих во имя власти и денег и самоупоение от чувства превосходства над всеми другими...
— Вы в свое время сказали: «Я чувствую в руках исторический узел, который невозможно развязать». Сегодня «узелки» то и дело развязываются: дома сносят, памятники взрывают, исторически значимые здания закрывают. Вот и Политехнический музей в Москве, легендарное для русской литературы место, чуть было не закрылся по бедности... Как вы думаете, что можно сделать, чтобы русские люди научились ценить свое прошлое?
Фото Debby Hudson on Unsplash
— Прошлое нужно уметь ценить, но одновременно уметь презирать и ненавидеть, если оно само презирало и ненавидело людей. Мы должны отвыкнуть связывать Победу с именем Сталина, который, попавшись на удочку провокации Гитлера — подброшенного через Бенеша сфабрикованного документа о заговоре красных военачальников против их вождя, — уничтожил лучшие кадры Красной Армии, не позволил взлетать в первые дни фашистского нападения нашим самолетам, разбомбленным на земле, и поставил омерзительные заградотряды, стрелявшие в своих. Он отвечает за добрую половину всех наших потерь.
Угнетает, что во многих социальных опросах, предлагающих выбрать самых высоко оцениваемых первой тройке оказывается Сталин, который принес столько бед нашему народу, как ни один другой даже чужеземный завоеватель. Но гипноз генетического мазохизма пройдет, и любви будущего он не удостоится.
— Прошлое нужно уметь ценить, но одновременно уметь презирать и ненавидеть, если оно само презирало и ненавидело людей. Мы должны отвыкнуть связывать Победу с именем Сталина, который, попавшись на удочку провокации Гитлера — подброшенного через Бенеша сфабрикованного документа о заговоре красных военачальников против их вождя, — уничтожил лучшие кадры Красной Армии, не позволил взлетать в первые дни фашистского нападения нашим самолетам, разбомбленным на земле, и поставил омерзительные заградотряды, стрелявшие в своих. Он отвечает за добрую половину всех наших потерь.
Угнетает, что во многих социальных опросах, предлагающих выбрать самых высоко оцениваемых первой тройке оказывается Сталин, который принес столько бед нашему народу, как ни один другой даже чужеземный завоеватель. Но гипноз генетического мазохизма пройдет, и любви будущего он не удостоится.
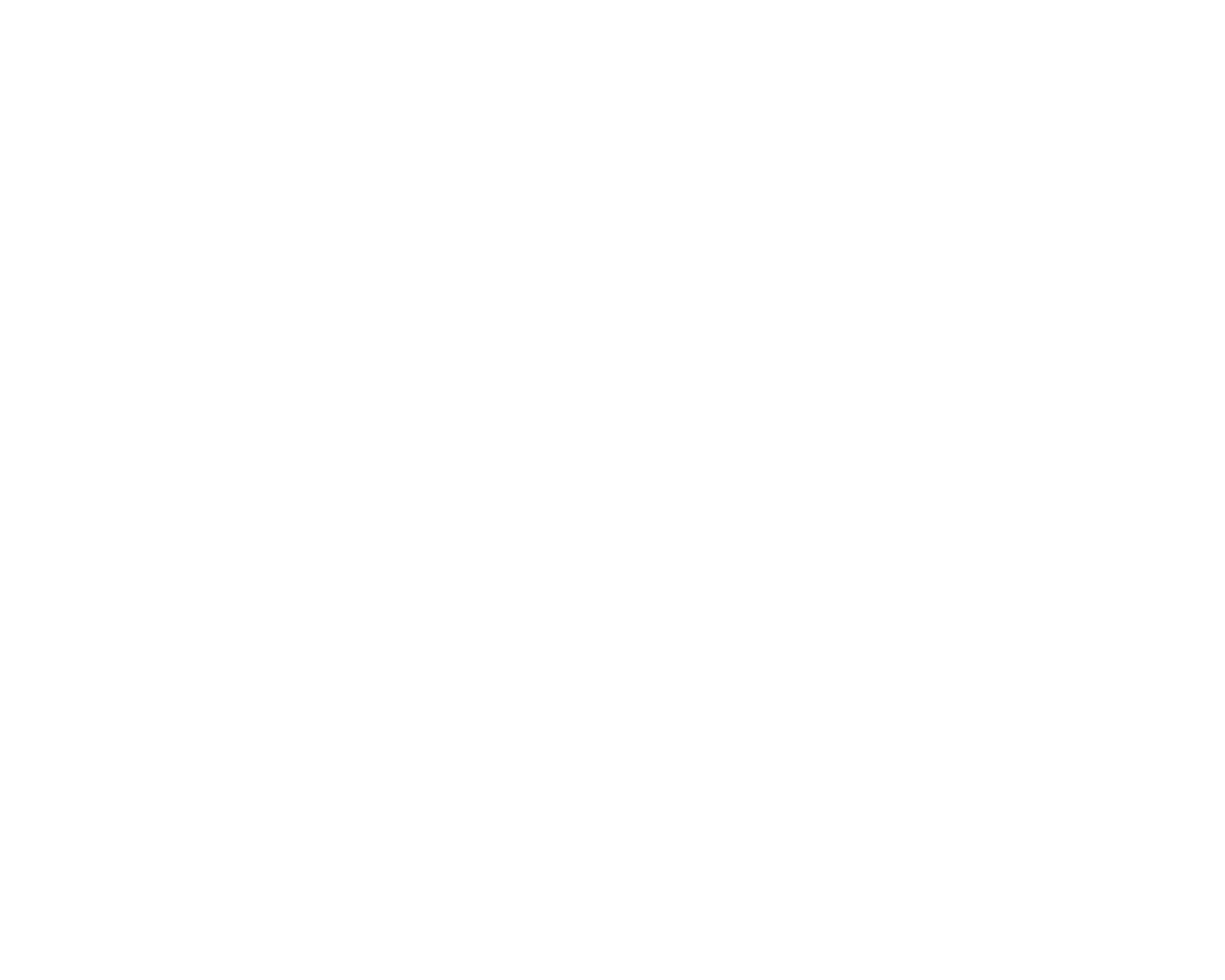
— В наше время так хочется, чтобы кто-то сказал исцеляющее поэтическое слово. Но создается впечатление, что поэты молчат. Или это только кажется? Можете кого-то особо выделить?
— Да у вас под носом живут два живых классика — Александр Кушнер и Глеб Горбовский. Совершенно разные, но тем и драгоценные поэты. Самоценен и неповторим Евгений Рейн. Он не отрываем от своих петербургских корней. Очень жаль, что больше нет талантливейшей Оли Бешенковской. У Беллы Ахмадулиной, у Андрея Вознесенского уже сейчас есть все, чтобы навсегда остаться в истории русской поэзии.
Инна Кабыш написала одно гениальное стихотворение, которое будут включать во все антологии: «Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет». Еще бы стихов десять на этом уровне, и тогда бы, и тогда бы... Я говорил уже, что мне нравятся фельетоны Быкова, но у него есть и сильная любовная лирика, и отличные философские стихотворения.
Инна Кабыш написала одно гениальное стихотворение, которое будут включать во все антологии: «Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет». Еще бы стихов десять на этом уровне, и тогда бы, и тогда бы... Я говорил уже, что мне нравятся фельетоны Быкова, но у него есть и сильная любовная лирика, и отличные философские стихотворения.
— Расцвет поэзии в России, как правило, связан с трудной ситуацией в стране и обществе. Выходит, что поэта воспитывают испытания, а в тепличных условиях мысль не растет. Как вы думаете, после кризиса искусство выйдет на новый, более высокий уровень?
— Выйдет, если преодолеет скабрезность, сарказм, стеб, разборки — именно такая Россия сейчас преобладает в искусстве. Думаю, что в нашей стране не было ни одного поэта, жившего в «тепличных условиях», и, судя по всему, не предвидится.
—Расскажите о своей работе над антологией «Десять веков русской поэзии». Сколько планируется частей и как скоро ждать выхода второго тома? И что еще в ваших планах?
— Кажется, эта антология переходит в лоно другого издательства и есть возможность дополнить и первый вышедший том. Трудно судить, сколько томов получится: четыре или даже пять. На первое место по количеству стихов после Пушкина вышли две женщины — Ахматова и Цветаева. Не ожидал, но приятно.
Сейчас закончил новую книгу со стихами и прозой о футболе «Моя футболиада», посвященную великому советскому футболу Боброва, Федотова, Сальникова, Хомича, Яшина, Стрельцова. Ищу издателя.
Photo by Priscilla Du Preez
Photo by Priscilla Du Preez
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Экономический кризис и вызванное им резкое сокращение финансирования обострили вопрос о роли музеев в современном обществе. С одной стороны, они обязаны хранить и научно обоснованно выставлять свои коллекции, с другой — делать посещение музея для зрителей приятным и неутомительным.
Крупных работ у скульптора Ахнафа Зиякаева не так уж много, но все они (и это главное) на виду: два памятника, четыре мемориальные доски, городская декоративная скульптура. Мы можем их видеть, оценивать или просто проходить мимо — все зависит от нашего восприятия окружающей среды.