Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Полина ВИНОГРАДОВА
Как джаз словами передать
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Jens Thekkeveettil on Unsplash
Дата публикации: 25 ноября 2024
«Рассуждать о музыке — все равно что танцевать об архитектуре», — однажды сказал знаменитый гитарист Фрэнк Заппа. Утверждение спорное, но во многом справедливое. Так считает и один из самых известных музыкальных экспертов, автор нескольких книг по истории мирового и отечественного джаза Владимир ФЕЙЕРТАГ. Но судить он не любит, предпочитает миловать и дружить. Тем не менее по роду деятельности ему часто приходится именно рассуждать о музыке. Должность доцента кафедры теории и истории музыки Университета культуры и искусств требует справедливой строгости по отношению к новому поколению джазменов.
— Я 35 лет работал лектором-музыковедом в «Ленконцерте», и моей основной темой был джаз. В небольших аудиториях я использовал магнитофонные записи, но когда джаз вышел на городскую сцену, то стал ведущим концертов. Напомню, что наш город первым начал проводить филармонические джазовые концерты. Мы жили в особой стране, и просветительство было необходимо. Ни одна книга зарубежного автора не выходила без предисловия советского литературоведа, ни одна пластинка не появлялась без аннотации, ни один концерт в Филармонии не обходился без вступительного слова. Не скажу, что дирекция «Ленконцерта» была в восторге от джаза, но в 60 — 70-е годы прошлого века многие чиновники понимали, что у этой музыки есть аудитория. Так на нашей сцене появились «Ленинградский диксиленд», джаз-оркестр Иосифа Вайнштейна, бэнд Алексея Канунникова, ансамбль Давида Голощекина, группы Анатолия Вапирова, Олега Куценко, квинтет солистов оркестра радио... И когда я вел концерты, то становился частью артистической команды, поэтому как музыкальный критик никогда не выступал. А на многих фестивалях я представлял никому не известные провинциальные ансамбли и должен был убедить публику, что каждый коллектив по-своему интересен.
— Давид Семенович Голощекин в интервью нашей газете посетовал, что современный слушатель мало интересуется джазом и зал Джазовой филармонии частенько пустует...
— Маэстро прав, джазовой публики маловато. Аншлаги бывают только тогда, когда приезжает именитый гастролер. И зал филармонии, рассчитанный на 200 мест, заполняется до отказа. Конечно, это чудовищно мало. Всего 200 человек, и нет толпы на улице! В 1980-е годы джазовые фестивали проходили в ДК им. Ленсовета (2200 мест), желающие попасть на концерты стояли у входа и готовы были вдвое больше заплатить за лишний билетик, хотя играли в основном советские джазмены. А сегодня приезжают звезды американского джаза, и заполняется всего лишь небольшой зал филармонии. Большие залы — «Октябрьский», Мюзик-холл, дворцы культуры — не были заполнены, когда выступали такие всемирно знаменитые группы, как трио Джона МакЛафлина, Manhatten Transfer, « Кровь, пот и слезы»...
—Может быть, Филармонии джазовой музыки стоит пересмотреть свою стратегию, стать более гибкой по отношению к современным течениям, чтобы убедить молодых людей, что джаз это модно, стильно и даже увлекательно?
— Давид Семенович Голощекин в интервью нашей газете посетовал, что современный слушатель мало интересуется джазом и зал Джазовой филармонии частенько пустует...
— Маэстро прав, джазовой публики маловато. Аншлаги бывают только тогда, когда приезжает именитый гастролер. И зал филармонии, рассчитанный на 200 мест, заполняется до отказа. Конечно, это чудовищно мало. Всего 200 человек, и нет толпы на улице! В 1980-е годы джазовые фестивали проходили в ДК им. Ленсовета (2200 мест), желающие попасть на концерты стояли у входа и готовы были вдвое больше заплатить за лишний билетик, хотя играли в основном советские джазмены. А сегодня приезжают звезды американского джаза, и заполняется всего лишь небольшой зал филармонии. Большие залы — «Октябрьский», Мюзик-холл, дворцы культуры — не были заполнены, когда выступали такие всемирно знаменитые группы, как трио Джона МакЛафлина, Manhatten Transfer, « Кровь, пот и слезы»...
—Может быть, Филармонии джазовой музыки стоит пересмотреть свою стратегию, стать более гибкой по отношению к современным течениям, чтобы убедить молодых людей, что джаз это модно, стильно и даже увлекательно?
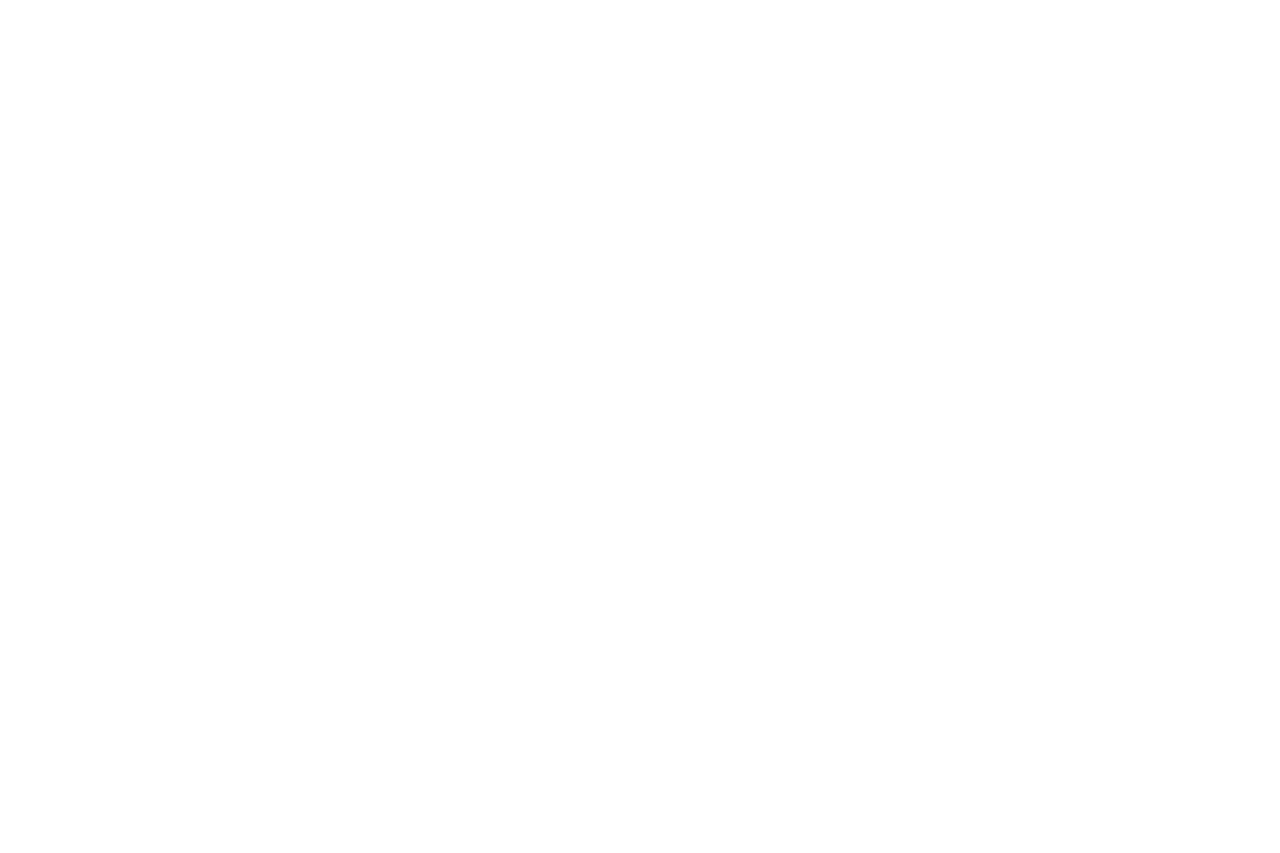
Фото Alex Zamora
on Unsplash
on Unsplash
— Джазовая филармония— это цитадель классического джаза. Давид Голощекин — наш джазовый классик, и поклонников у него вполне достаточно. На некоторые его концерты не попасть (на юбилейные, тематические, фестивальные), но говорить о ежедневном заполнении филармонии нельзя. Чаще всего приходят люди любопытные и доброжелательные, но джаз они не знают и не очень-то в музыку вслушиваются. Потом могут сказать: «Да, я был на джазе» (как в Эрмитаже, в Мариинском театре, в Театре Европы). Кстати, в филармонии звучит разная музыка — свинг, бибоп, диксиленд, латиноамериканская танцевальная музыка, блюз, фанк. Правда, нет авангарда и джаз-рока. И не надо. Это не в русле той художественной эстетики, которую исповедует руководство филармонии. Джаз-рок, этно-джаз, авангардные изыски можно услышать в других местах — в нескольких клубах, на Фестивале имени Сергея Курехина...
— У вас нет ощущения, что история джаза в прежнем его понимании закончилась? Все лучшие стандарты уже сыграны, а все, что появляется сегодня, нельзя назвать джазом в чистом виде?
— Нет, история не закончилась. Разве можно было бы в академической сфере сказать такое про музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Верди? Джазовые стандарты, знаменитые мелодии, оставленные нам в наследство, каждый раз исполняются по-новому, «одеваются» в новую аранжировку, вдохновляют музыкантов на новые импровизационные идеи. Но людям свойственно увлекаться модными современными ритмами, новыми электронными звучаниями, поэтому возникают различные экспериментальные направления. А поскольку в основе этих направлений так или иначе оказываются идеи индивидуальной исполнительской свободы(импровизация), то легче всего всю эту музыку «пристегнуть» к джазу. Хотя появляются и такие понятия, как «Новая импровизационная музыка», «Свободная музыка»... Как бы это ни называли, именно классический джаз сделал нас людьми ритма. По ритму мы узнаем эпоху. Раньше всю музыку сводили к трем элементам — мелодии, гармонии и ритму. Именно в такой последовательности. На мой взгляд, сегодня расклад изменился — на первое место выходит ритм, а затем гармония и мелодия. Разумеется, я говорю только о неакадемической музыке.
— Но проявляет ли молодежь интерес к традиционному джазу? Или начинающие джазмены по большей части склонны к авангарду, музыкальным экспериментам?
— Если мы говорим о молодых музыкантах, то, само собой, «азбука» никуда не денется. Все как в фигурном катании — сначала надо «выполнить школу», и только потом появляется произвольная программа. Та часть молодых людей, которая получила хорошее начальное музыкальное образование и гуманитарное воспитание, с интересом слушают классический джаз, когда его исполняют талантливо и ярко. И обязательно будут играть стандарты, блюзы. И я не считаю, что начинающие джазмены способны сделать что-то интересное в авангардной музыке, предложить оригинальную музыкальную драматургию, не пройдя основ академической музыки (ведь в ней авангард появился значительно раньше) и традиционного джаза.
— Короче говоря, музыкальную грамотность следует прививать с детства.
— У вас нет ощущения, что история джаза в прежнем его понимании закончилась? Все лучшие стандарты уже сыграны, а все, что появляется сегодня, нельзя назвать джазом в чистом виде?
— Нет, история не закончилась. Разве можно было бы в академической сфере сказать такое про музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Верди? Джазовые стандарты, знаменитые мелодии, оставленные нам в наследство, каждый раз исполняются по-новому, «одеваются» в новую аранжировку, вдохновляют музыкантов на новые импровизационные идеи. Но людям свойственно увлекаться модными современными ритмами, новыми электронными звучаниями, поэтому возникают различные экспериментальные направления. А поскольку в основе этих направлений так или иначе оказываются идеи индивидуальной исполнительской свободы(импровизация), то легче всего всю эту музыку «пристегнуть» к джазу. Хотя появляются и такие понятия, как «Новая импровизационная музыка», «Свободная музыка»... Как бы это ни называли, именно классический джаз сделал нас людьми ритма. По ритму мы узнаем эпоху. Раньше всю музыку сводили к трем элементам — мелодии, гармонии и ритму. Именно в такой последовательности. На мой взгляд, сегодня расклад изменился — на первое место выходит ритм, а затем гармония и мелодия. Разумеется, я говорю только о неакадемической музыке.
— Но проявляет ли молодежь интерес к традиционному джазу? Или начинающие джазмены по большей части склонны к авангарду, музыкальным экспериментам?
— Если мы говорим о молодых музыкантах, то, само собой, «азбука» никуда не денется. Все как в фигурном катании — сначала надо «выполнить школу», и только потом появляется произвольная программа. Та часть молодых людей, которая получила хорошее начальное музыкальное образование и гуманитарное воспитание, с интересом слушают классический джаз, когда его исполняют талантливо и ярко. И обязательно будут играть стандарты, блюзы. И я не считаю, что начинающие джазмены способны сделать что-то интересное в авангардной музыке, предложить оригинальную музыкальную драматургию, не пройдя основ академической музыки (ведь в ней авангард появился значительно раньше) и традиционного джаза.
— Короче говоря, музыкальную грамотность следует прививать с детства.
Фото Kelli McClintock on Unsplash
— Конечно. Не хочу выглядеть ворчуном, но я все время убеждаюсь в том, что интерес молодежи к музыке, живописи, литературе и истории невелик. Скажем, очень многие студенты музыкального факультета Университета культуры и искусства признаются, что никогда не были в оперном театре, никогда не слышали «живьем» симфонический оркестр. Значит, ни родители, ни школа не дали никакого толчка к такому интересу.
У меня есть знакомая семья, в которой подрастает юноша-десятиклассник. Родители его с малых лет в Филармонию водят, и он, что называется, «подсел» на симфоническую музыку. Когда они вечером с концерта приходят, к нему прибегают друзья, зовут во двор гулять или в футбол играть. «Где ты так долго был?» — спрашивают. А он маме потихоньку говорит: «Только не говори ребятам, куда мы ходили». То есть стыдно сознаться, что классику любит. Я всех своих студентов приглашаю на джазовые концерты. Думаете, ходят? Не, не ходят. Кстати, знаете ли вы, что Джазовая филармония проводит концерты для детей? В каждое последнее воскресенье месяца в 12.00. Ансамбли играют довольно доступную музыку, и детям (а заодно и родителям) тут же объясняют, что, как и почему. Маленьким зрителям дают погремушки, чтобы они в такт музыке подыгрывали, хлопали и прыгали, тренировали чувство ритма. А молодые вокалисты могут принять участие в конкурсе «Осенний марафон».
— Конечно. Не хочу выглядеть ворчуном, но я все время убеждаюсь в том, что интерес молодежи к музыке, живописи, литературе и истории невелик. Скажем, очень многие студенты музыкального факультета Университета культуры и искусства признаются, что никогда не были в оперном театре, никогда не слышали «живьем» симфонический оркестр. Значит, ни родители, ни школа не дали никакого толчка к такому интересу.
У меня есть знакомая семья, в которой подрастает юноша-десятиклассник. Родители его с малых лет в Филармонию водят, и он, что называется, «подсел» на симфоническую музыку. Когда они вечером с концерта приходят, к нему прибегают друзья, зовут во двор гулять или в футбол играть. «Где ты так долго был?» — спрашивают. А он маме потихоньку говорит: «Только не говори ребятам, куда мы ходили». То есть стыдно сознаться, что классику любит. Я всех своих студентов приглашаю на джазовые концерты. Думаете, ходят? Не, не ходят. Кстати, знаете ли вы, что Джазовая филармония проводит концерты для детей? В каждое последнее воскресенье месяца в 12.00. Ансамбли играют довольно доступную музыку, и детям (а заодно и родителям) тут же объясняют, что, как и почему. Маленьким зрителям дают погремушки, чтобы они в такт музыке подыгрывали, хлопали и прыгали, тренировали чувство ритма. А молодые вокалисты могут принять участие в конкурсе «Осенний марафон».
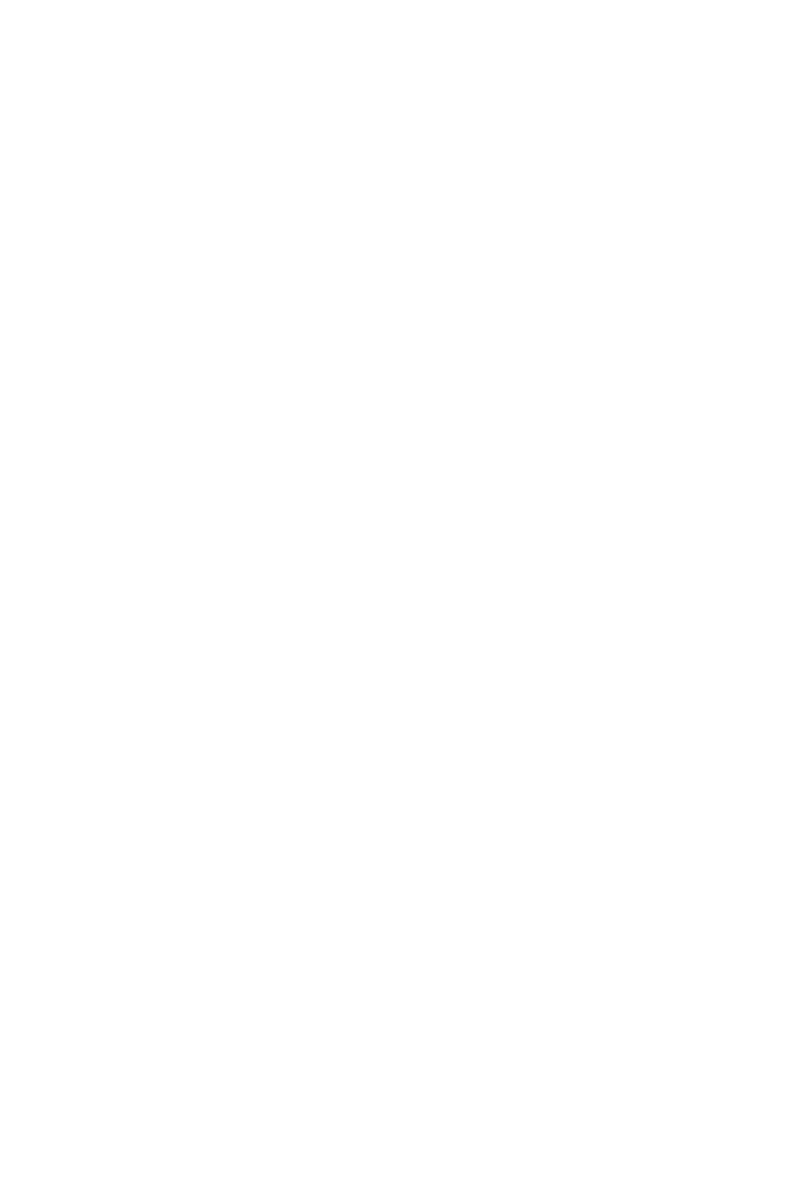
— И все-таки что интересует новое поколение музыкантов? Вроде бы сегодня не осталось музыкального явления, за которым надо«подглядывать в щелочку»?
— Это мое поколение подглядывало в щелочку. Я родился в семье музыкантов, и, конечно, в пять лет меня усадили за фортепиано. Мне хотелось гонять мяч, кататься на санках, а меня заставляли играть гаммы. Уже не помню как, но я научился подбирать, играть на слух. Во время войны школьники часто выступали в госпиталях, и я обычно играл там какие-то фокстроты и песни военных лет. За это я получал грамоты и дипломы, а за сонаты Моцарта или Бетховена мне ничего не давали. И мне кажется, что я уже в 10 — 11 лет понимал, что хочу играть именно эстрадную музыку. Слово «джаз» было мне тогда незнакомо. А позже все было почти так, как в фильме «Стиляги». Только у меня не было денег, чтобы купить необходимые заграничные шмотки. Мы не владели информацией, знали только, что есть такая страна Америка, что там постоянно звучит джаз, что там можно танцевать рок-н-ролл и тебя никто не выгонит с танцплощадки. Я уверен, что если бы мы побольше знали тогда об этой стране, то многие музыканты туда бы не эмигрировали. Надеяться там на музыкальную джазовую карьеру было просто нелепо. А позже я собрал танцевальный оркестр и играл на закрытых школьных и студенческих вечерах. Даже неплохо зарабатывал. Интерес к андеграунду у человека есть всегда. Всем хочется заглянуть в щелочку: а что же там, о чем говорят «нельзя»? У молодого поколения был интерес к джазу. Вот мы и играли музыку из американских кинофильмов, играли стандарты, утверждая классический джаз, и люди благодарили нас за информацию. Мы ничего нового не открывали, просто копировали, и все. Чувствовали себя американцами, переодетыми в советские костюмы. И потом десятилетиями было не преодолеть этот американоцентризм. Мы и не пытались создавать какой-то русский джаз. А сегодня все открыто и доступно. Не нужно ничего изучать тайно. Поэтому классический джаз молодым не так уж интересен, хочется быть в субкультуре, и тогда начинаются поиски и эксперименты.
— Много ли желающих получить профессию джазового исполнителя?
— Не так уж много, но очень хорошо, что есть такие люди, которые хотят получить диплом с профессией «джазовый исполнитель». Кстати, в этом году исполняется 35 лет с момента открытия джазовых отделений в музыкальных училищах Российской Федерации. И более 20 лет существует кафедра «Музыкальное искусство эстрады». На бюджетное дневное отделение берут только 15 человек. Как правило, это талантливые молодые люди, выпускники джазовых отделов музыкальных училищ. Но набираются группы по 30 — 40 человек на коммерческом вокальном отделении. И это нелегкий контингент с очень низким уровнем гуманитарной культуры. Нет отбоя и от желающих стать менеджерами шоу-бизнеса. Инструменталистов значительно меньше. К тому же многих приходится отчислять. На одном из занятий я попросил поднять руки тех, кто умеет играть на фортепиано. Оказалось, меньше половины студентов. Но понятное дело, любому университету нужны деньги, и стараются взять побольше тех, кто готов платить. А самые грамотные — это заочники, то есть музыканты, которые четко знают, зачем им нужно профессиональное образование, они уже работают в этой области. В университете работают прекрасные педагоги, и молодым есть чему у них поучиться.
— Это мое поколение подглядывало в щелочку. Я родился в семье музыкантов, и, конечно, в пять лет меня усадили за фортепиано. Мне хотелось гонять мяч, кататься на санках, а меня заставляли играть гаммы. Уже не помню как, но я научился подбирать, играть на слух. Во время войны школьники часто выступали в госпиталях, и я обычно играл там какие-то фокстроты и песни военных лет. За это я получал грамоты и дипломы, а за сонаты Моцарта или Бетховена мне ничего не давали. И мне кажется, что я уже в 10 — 11 лет понимал, что хочу играть именно эстрадную музыку. Слово «джаз» было мне тогда незнакомо. А позже все было почти так, как в фильме «Стиляги». Только у меня не было денег, чтобы купить необходимые заграничные шмотки. Мы не владели информацией, знали только, что есть такая страна Америка, что там постоянно звучит джаз, что там можно танцевать рок-н-ролл и тебя никто не выгонит с танцплощадки. Я уверен, что если бы мы побольше знали тогда об этой стране, то многие музыканты туда бы не эмигрировали. Надеяться там на музыкальную джазовую карьеру было просто нелепо. А позже я собрал танцевальный оркестр и играл на закрытых школьных и студенческих вечерах. Даже неплохо зарабатывал. Интерес к андеграунду у человека есть всегда. Всем хочется заглянуть в щелочку: а что же там, о чем говорят «нельзя»? У молодого поколения был интерес к джазу. Вот мы и играли музыку из американских кинофильмов, играли стандарты, утверждая классический джаз, и люди благодарили нас за информацию. Мы ничего нового не открывали, просто копировали, и все. Чувствовали себя американцами, переодетыми в советские костюмы. И потом десятилетиями было не преодолеть этот американоцентризм. Мы и не пытались создавать какой-то русский джаз. А сегодня все открыто и доступно. Не нужно ничего изучать тайно. Поэтому классический джаз молодым не так уж интересен, хочется быть в субкультуре, и тогда начинаются поиски и эксперименты.
— Много ли желающих получить профессию джазового исполнителя?
— Не так уж много, но очень хорошо, что есть такие люди, которые хотят получить диплом с профессией «джазовый исполнитель». Кстати, в этом году исполняется 35 лет с момента открытия джазовых отделений в музыкальных училищах Российской Федерации. И более 20 лет существует кафедра «Музыкальное искусство эстрады». На бюджетное дневное отделение берут только 15 человек. Как правило, это талантливые молодые люди, выпускники джазовых отделов музыкальных училищ. Но набираются группы по 30 — 40 человек на коммерческом вокальном отделении. И это нелегкий контингент с очень низким уровнем гуманитарной культуры. Нет отбоя и от желающих стать менеджерами шоу-бизнеса. Инструменталистов значительно меньше. К тому же многих приходится отчислять. На одном из занятий я попросил поднять руки тех, кто умеет играть на фортепиано. Оказалось, меньше половины студентов. Но понятное дело, любому университету нужны деньги, и стараются взять побольше тех, кто готов платить. А самые грамотные — это заочники, то есть музыканты, которые четко знают, зачем им нужно профессиональное образование, они уже работают в этой области. В университете работают прекрасные педагоги, и молодым есть чему у них поучиться.
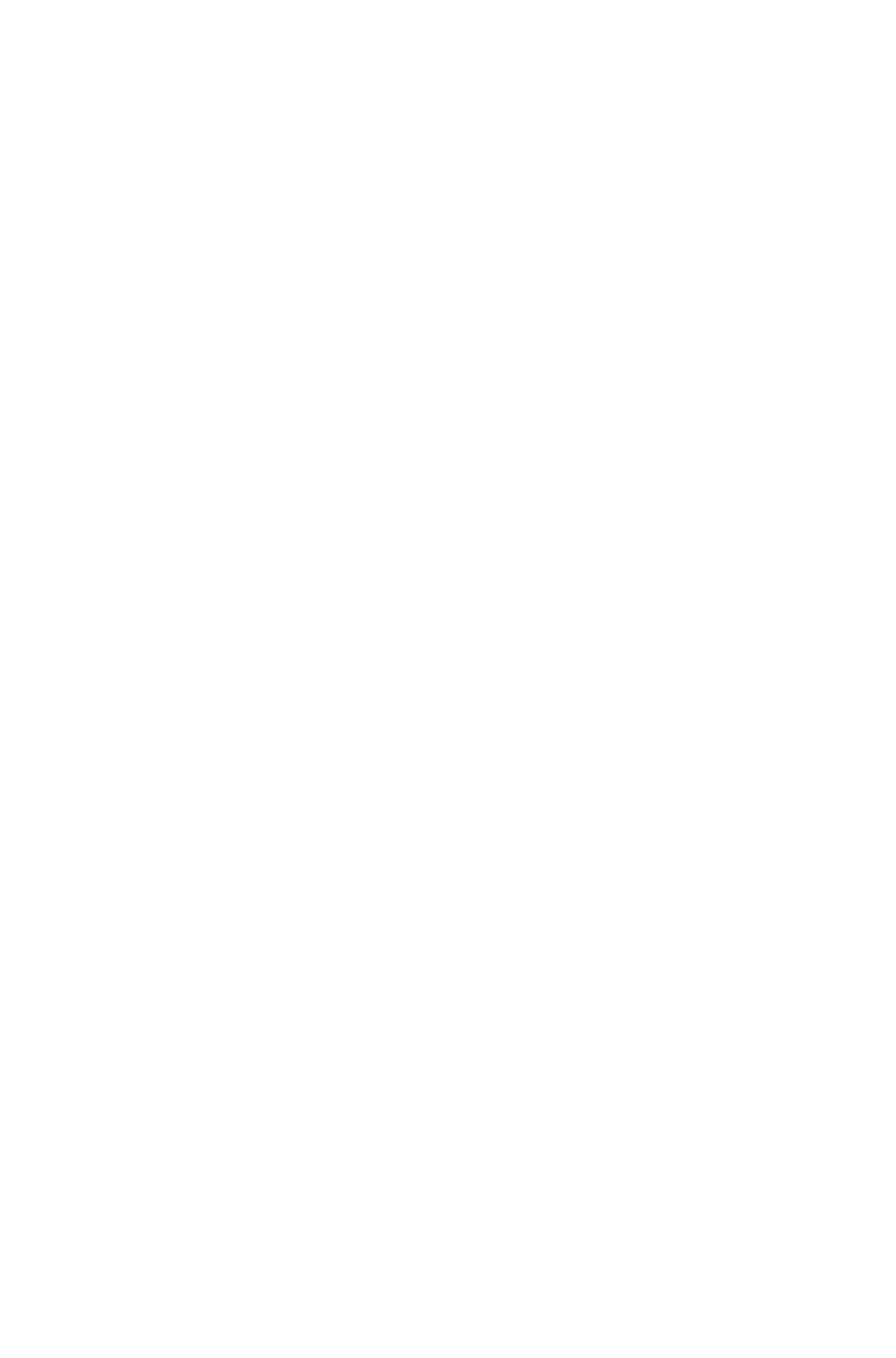
Фото César Guadarrama Cantú on Unsplash
— Петербург успешно удерживает позицию одной из джазовых столиц мира?
— Я бы не сказал... Конечно, работает Джазовая филармония, работают клубы, в кафе и ресторанах тоже звучит джаз. Но у нас ведь жизнь беднее, у публики мало денег на досуг. Что для американца посетить джаз-клуб, где билет стоит 15 долларов? Пустяк, и можно еще подругу пригласить. Что для российского слушателя купить два билета по 500 рублей, учитывая, что подругу желательно еще и угостить? Не каждый может себе позволить. Так что пока мы далеко не Нью-Йорк.
— А как с джазом обстоят дела по стране в целом?
— Не секрет, что джаз — это музыка больших городов. Во всех миллионниках обязательно существует джазовое движение: джаз-клубы, фестивали, отдельные концерты гастролеров. Я вам назову джазовые точки: Москва, Петербург, Архангельск, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск. В этих городах постоянно звучит джаз.
— Петербург успешно удерживает позицию одной из джазовых столиц мира?
— Я бы не сказал... Конечно, работает Джазовая филармония, работают клубы, в кафе и ресторанах тоже звучит джаз. Но у нас ведь жизнь беднее, у публики мало денег на досуг. Что для американца посетить джаз-клуб, где билет стоит 15 долларов? Пустяк, и можно еще подругу пригласить. Что для российского слушателя купить два билета по 500 рублей, учитывая, что подругу желательно еще и угостить? Не каждый может себе позволить. Так что пока мы далеко не Нью-Йорк.
— А как с джазом обстоят дела по стране в целом?
— Не секрет, что джаз — это музыка больших городов. Во всех миллионниках обязательно существует джазовое движение: джаз-клубы, фестивали, отдельные концерты гастролеров. Я вам назову джазовые точки: Москва, Петербург, Архангельск, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск. В этих городах постоянно звучит джаз.
— Владимир Борисович, кем вы сами себя считаете — музыковедом, историком, теоретиком джаза? Для музыкального критика джаз — дело неблагодарное, оценивать импровизации, мягко говоря, не имеет смысла. Ведь в следующий раз все будет звучать по-другому.
— Я всегда повторяю, что музыкальная критика в принципе дело неблагодарное. Можно рецензировать концерты и фестивали, но это делается для истории и для того, чтобы читатели заметили, что джаз реально существует. А музыку нельзя объяснить словами! Музыка— это чувства, а разве можно внятно сформулировать чувства? Тем не менее мне приходилось что-то писать, но я всегда немного смущаюсь, когда про меня говорят: «Он знает все о джазе». Я не знаю всего о джазе и не пытаюсь узнать. Ведь в джазе каждый музыкант — это отдельный и неповторимый мир.
— Я всегда повторяю, что музыкальная критика в принципе дело неблагодарное. Можно рецензировать концерты и фестивали, но это делается для истории и для того, чтобы читатели заметили, что джаз реально существует. А музыку нельзя объяснить словами! Музыка— это чувства, а разве можно внятно сформулировать чувства? Тем не менее мне приходилось что-то писать, но я всегда немного смущаюсь, когда про меня говорят: «Он знает все о джазе». Я не знаю всего о джазе и не пытаюсь узнать. Ведь в джазе каждый музыкант — это отдельный и неповторимый мир.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
При упоминании имени Карла Фаберже перед глазами у всех возникает видение вереницы необычайно красивых и немыслимо дорогих пасхальных яиц. Значительно меньше людей припомнят, что среди произведений мастеров Фаберже — десятки «человеческих фигурок», виртуозно вырезанных из разноцветных камней.
Светлана Крючкова поделилась с нашим обозревателем, созданной программой «Путем всея земли...», в которой собраны произведения разных лет, а также рассказала о своей главной роли в фильме Дмитрия Томашпольского «Луна в зените».