Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Марина ВАСИЛЬЕВА
Муза скульптора Зиякаева
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Дарьи Клименко
Дата публикации: 14 октября 2024
Крупных работ у скульптора Ахнафа Зиякаева не так уж много, но все они (и это главное) на виду: два памятника, четыре мемориальные доски, городская декоративная скульптура. Мы можем их видеть, оценивать или просто проходить мимо — все зависит от нашего восприятия окружающей среды. Один выйдет на Стрелку, замрет восторженно от красоты родного города, а другой без оглядки промчится по своим делам. Или точно так же, торопясь к «Василеостровской», не увидит, как за его спиной нетерпеливо гарцуют прекрасные кони. Впряженные в вагон, они как бы радуются наступившему дню и своему предназначению — служить человеку.
Эти кони — творчество Зиякаева. Городская декоративная скульптура, посвященная первому петербургскому общественному транспорту — конке. Кони сделаны из бетона, покрытого пластиком. Но мастер очень хотел бы повторить их в бронзе, что лучше выразит экспрессию живого существа, да еще такого прекрасного, как лошадь.
Фото Александра Дроздова
Лошади — любимая тема в творчестве Ахнафа Гаделгаряевича.Они впервые появились еще на его детских рисунках. Семья татар Зиякаевых жила в Башкирии, в Нефтекамске, где в соседних с городом селах держали лошадей. Мальчик рисовал их с натуры, лепил из глины. Он уже тогда знал, что, как родители, рабочим-нефтяником не станет. Его будущее — творчество.
Лошади — любимая тема в творчестве Ахнафа Гаделгаряевича.Они впервые появились еще на его детских рисунках. Семья татар Зиякаевых жила в Башкирии, в Нефтекамске, где в соседних с городом селах держали лошадей. Мальчик рисовал их с натуры, лепил из глины. Он уже тогда знал, что, как родители, рабочим-нефтяником не станет. Его будущее — творчество.
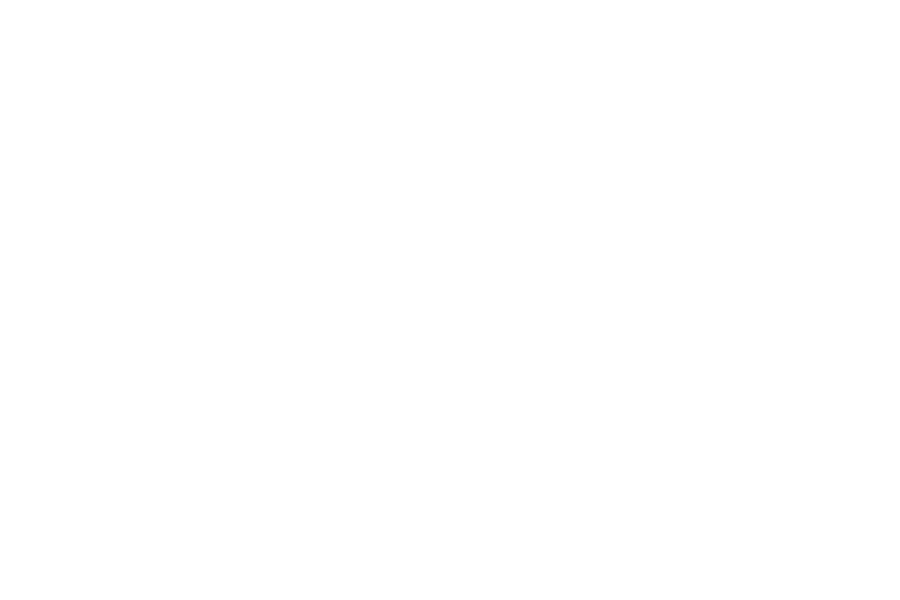
В советские времена молодежь из национальных республик могла поступать в вузы страны по так называемому целевому набору, вне конкурса. Ахнаф от такого пути намеренно отказался. Он хотел не поблажек, а честной конкурентной борьбы, оценки своих истинных возможностей, и потому, решив, что будет учиться только в Ленинграде, в Академии художеств имени И. Е. Репина, стал серьезно готовиться к поступлению. Сначала занимался в камнерезном училище, а приехав в город на Неве, для практики устроился художником-оформителем в один из строительных трестов города.
— Я благодарен судьбе, что она привела меня именно сюда. Часами я бродил по городу, буквально впитывая его энергетику, погружаясь в творения великих зодчих и скульпторов. Я чувствовал запах камня, его тепло, «читал» дома, как книги. Видел, что в творениях прошлого нет ничего случайного, все «вписано» на свои места, оправдано предназначением.
Поступив в академию, испытал ни с чем не сравнимое счастье. Сначала учился пять лет на архитектурном факультете, потом перешел на отделение скульптуры. Я с удовольствием вспоминаю своих учителей: Сергея Анатольевича Кубасова, Михаила Константиновича Аникушина, других профессоров. Только находиться рядом с ними, смотреть, как они работают, и то была большая наука.
В центре мастерской Зиякаева стоят две скульптуры. Два поэта, с которыми он неразлучен вот уже десять лет, — Александр Пушкин и Габдулла Тукай. И хотя памятники им Ахнаф Гаделгаряевич уже давно сделал и они заняли свои места, мастер возвращается к поэтам вновь и вновь, пытаясь постичь в них им еще неузнанное. А может быть, даже занять у них вдохновения. Вот такая муза у этого скульптора.
Получить заказ «на Пушкина» — удача редкая. Она пришла из города Старый Оскол Белгородской области. «Мне многие завидовали, — вспоминает скульптор. — Далеко не каждому выпадает такая честь — поработать над образом великого поэта». Он сделал поясной памятник гению в камне (габбро — разновидность гранита)и к тому же непривычным нашему общему видению. Его Пушкин не парадный, а камерный,домашний, под стать городу, в котором он «поселился». Кажется, что Александр Сергеевич застигнут мастером в момент вдохновения, творческой радости: в левой руке — листы рукописи, а правая готова вновь потянуться к перу.
— Я благодарен судьбе, что она привела меня именно сюда. Часами я бродил по городу, буквально впитывая его энергетику, погружаясь в творения великих зодчих и скульпторов. Я чувствовал запах камня, его тепло, «читал» дома, как книги. Видел, что в творениях прошлого нет ничего случайного, все «вписано» на свои места, оправдано предназначением.
Поступив в академию, испытал ни с чем не сравнимое счастье. Сначала учился пять лет на архитектурном факультете, потом перешел на отделение скульптуры. Я с удовольствием вспоминаю своих учителей: Сергея Анатольевича Кубасова, Михаила Константиновича Аникушина, других профессоров. Только находиться рядом с ними, смотреть, как они работают, и то была большая наука.
В центре мастерской Зиякаева стоят две скульптуры. Два поэта, с которыми он неразлучен вот уже десять лет, — Александр Пушкин и Габдулла Тукай. И хотя памятники им Ахнаф Гаделгаряевич уже давно сделал и они заняли свои места, мастер возвращается к поэтам вновь и вновь, пытаясь постичь в них им еще неузнанное. А может быть, даже занять у них вдохновения. Вот такая муза у этого скульптора.
Получить заказ «на Пушкина» — удача редкая. Она пришла из города Старый Оскол Белгородской области. «Мне многие завидовали, — вспоминает скульптор. — Далеко не каждому выпадает такая честь — поработать над образом великого поэта». Он сделал поясной памятник гению в камне (габбро — разновидность гранита)и к тому же непривычным нашему общему видению. Его Пушкин не парадный, а камерный,домашний, под стать городу, в котором он «поселился». Кажется, что Александр Сергеевич застигнут мастером в момент вдохновения, творческой радости: в левой руке — листы рукописи, а правая готова вновь потянуться к перу.
— Я благодарен судьбе, что она привела меня именно сюда. Часами я бродил по городу, буквально впитывая его энергетику, погружаясь в творения великих зодчих и скульпторов. Я чувствовал запах камня, его тепло, «читал» дома, как книги. Видел, что в творениях прошлого нет ничего случайного, все «вписано» на свои места, оправдано предназначением.
Поступив в академию, испытал ни с чем не сравнимое счастье. Сначала учился пять лет на архитектурном факультете, потом перешел на отделение скульптуры. Я с удовольствием вспоминаю своих учителей: Сергея Анатольевича Кубасова, Михаила Константиновича Аникушина, других профессоров. Только находиться рядом с ними, смотреть, как они работают, и то была большая наука.
В центре мастерской Зиякаева стоят две скульптуры. Два поэта, с которыми он неразлучен вот уже десять лет, — Александр Пушкин и Габдулла Тукай. И хотя памятники им Ахнаф Гаделгаряевич уже давно сделал и они заняли свои места, мастер возвращается к поэтам вновь и вновь, пытаясь постичь в них им еще неузнанное. А может быть, даже занять у них вдохновения. Вот такая муза у этого скульптора.
Получить заказ «на Пушкина» — удача редкая. Она пришла из города Старый Оскол Белгородской области. «Мне многие завидовали, — вспоминает скульптор. — Далеко не каждому выпадает такая честь — поработать над образом великого поэта». Он сделал поясной памятник гению в камне (габбро — разновидность гранита)и к тому же непривычным нашему общему видению. Его Пушкин не парадный, а камерный,домашний, под стать городу, в котором он «поселился». Кажется, что Александр Сергеевич застигнут мастером в момент вдохновения, творческой радости: в левой руке — листы рукописи, а правая готова вновь потянуться к перу.
Поступив в академию, испытал ни с чем не сравнимое счастье. Сначала учился пять лет на архитектурном факультете, потом перешел на отделение скульптуры. Я с удовольствием вспоминаю своих учителей: Сергея Анатольевича Кубасова, Михаила Константиновича Аникушина, других профессоров. Только находиться рядом с ними, смотреть, как они работают, и то была большая наука.
В центре мастерской Зиякаева стоят две скульптуры. Два поэта, с которыми он неразлучен вот уже десять лет, — Александр Пушкин и Габдулла Тукай. И хотя памятники им Ахнаф Гаделгаряевич уже давно сделал и они заняли свои места, мастер возвращается к поэтам вновь и вновь, пытаясь постичь в них им еще неузнанное. А может быть, даже занять у них вдохновения. Вот такая муза у этого скульптора.
Получить заказ «на Пушкина» — удача редкая. Она пришла из города Старый Оскол Белгородской области. «Мне многие завидовали, — вспоминает скульптор. — Далеко не каждому выпадает такая честь — поработать над образом великого поэта». Он сделал поясной памятник гению в камне (габбро — разновидность гранита)и к тому же непривычным нашему общему видению. Его Пушкин не парадный, а камерный,домашний, под стать городу, в котором он «поселился». Кажется, что Александр Сергеевич застигнут мастером в момент вдохновения, творческой радости: в левой руке — листы рукописи, а правая готова вновь потянуться к перу.
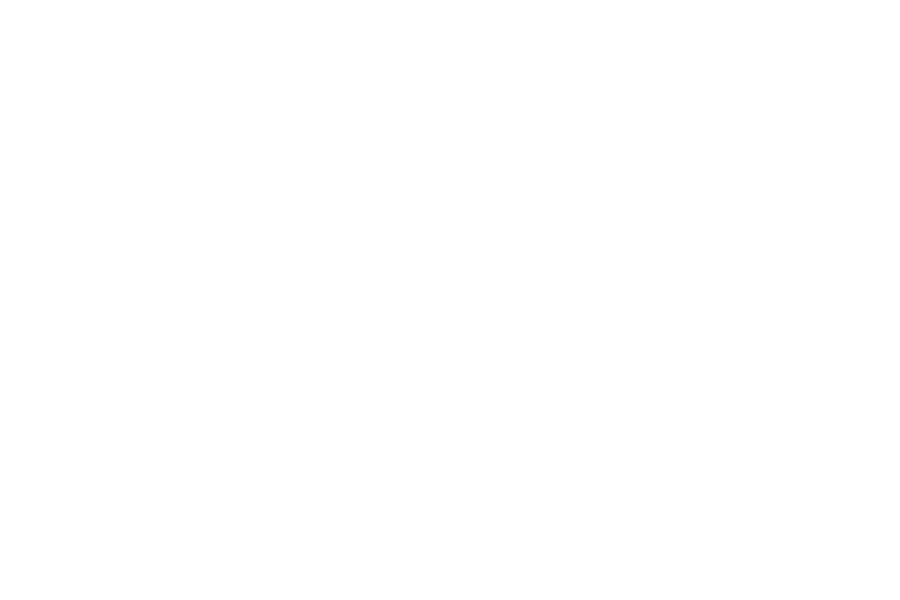
Фото Дмитрия Соколова
Памятник Габдулле Тукаю для скульптора тоже заказ почетный. Он поступил от правительства Республики Татарстан, которое решило в год 300-летия Петербурга сделать именно такой подарок нашему городу. Памятник установлен на углу Кронверкской и Зверинской улиц неподалеку от бывшей татарской слободы. Теперь здесь сквер имени Тукая.
Памятник Габдулле Тукаю для скульптора тоже заказ почетный. Он поступил от правительства Республики Татарстан, которое решило в год 300-летия Петербурга сделать именно такой подарок нашему городу. Памятник установлен на углу Кронверкской и Зверинской улиц неподалеку от бывшей татарской слободы. Теперь здесь сквер имени Тукая.
Дар далеко не случайный, хотя Тукай — поэт, писатель и литературный критик, «татарский Пушкин»,создавший классический стиль поэзии своего народа и замечательные сказки, одна из которых («Шурале») широко известна, — напрямую связан с нашим городом не был. А вот татарский народ — да. Вспомним, что первостроителями города были многочисленные выходцы из Казанской губернии, которые назад на Волгу не возвратились, а остались здесь, на берегах Невы. И сегодня татарская община Петербурга самая крупная в РФ — в ней 300 тысяч этнических татар, знаменитых и простых, работающих во всех городских сферах.
В отличие от других живущих здесь народов татары редко подчеркивают свою национальность, а все потому, что они коренные петербуржцы. Но Зиякаев не из их числа, и, думаю, наверное, поэтому ему удалось и в памятнике Тукаю, и в мемориальных досках передать свое национальное переживание в познании тех, кому они посвящены. Например, татарскому просветителю и общественному духовному деятелю, инициатору строительства мечети в нашем городе Атаулле Баязитову или выдающемуся историку и тюркологу Льву Николаевичу Гумилеву. На мой взгляд, мемориальная доска Гумилеву — это лучшее произведение скульптора. На черной мраморной плите бронзовый портрет исключительного человека, знаменитого сына знаменитых родителей, а сбоку песочные часы, как знак быстротекущего времени. Внизу их, там, куда ушло прошлое, скачущий всадник. Вот так коротко, зримо и значимо.
В отличие от других живущих здесь народов татары редко подчеркивают свою национальность, а все потому, что они коренные петербуржцы. Но Зиякаев не из их числа, и, думаю, наверное, поэтому ему удалось и в памятнике Тукаю, и в мемориальных досках передать свое национальное переживание в познании тех, кому они посвящены. Например, татарскому просветителю и общественному духовному деятелю, инициатору строительства мечети в нашем городе Атаулле Баязитову или выдающемуся историку и тюркологу Льву Николаевичу Гумилеву. На мой взгляд, мемориальная доска Гумилеву — это лучшее произведение скульптора. На черной мраморной плите бронзовый портрет исключительного человека, знаменитого сына знаменитых родителей, а сбоку песочные часы, как знак быстротекущего времени. Внизу их, там, куда ушло прошлое, скачущий всадник. Вот так коротко, зримо и значимо.
Фото Toa Heftiba on Unsplash
Но вернемся к Габдулле Тукаю. Глядя на памятник, где поэт в одной руке держит книгу, а другой защищается от холодного северного ветра, на его лицо — мыслителя и страдальца, которому судьба отмерила всего лишь 27 лет жизни, испытываешь горечь — почему поэты так рано уходят от нас? В Казани много мемориальных мест, посвященных великому земляку, осталось литературное наследие. А в Петербурге есть еще мемориальная доска на доме № 5 по Казанской улице, где Тукай прожил несколько дней во время визита в наш город. Зиякаев выполнил ее из «тревожного» красного гранита. И сейчас он снова с Тукаем. Готовит композиции к его сказкам «Шурале» и «Хозяйка воды», которые предполагает отлить в бронзе.
На одной из полок среди многочисленных фигурок коней, то скачущих, то стоящих около всадников, — триптих из медово-желтой бронзы. И без слов понятно — он о самом трагическом времени в жизни нашего города — блокаде: девочка, стоящая у невской проруби, очередь за хлебом, согбенные люди, поддерживающие друг друга.
На одной из полок среди многочисленных фигурок коней, то скачущих, то стоящих около всадников, — триптих из медово-желтой бронзы. И без слов понятно — он о самом трагическом времени в жизни нашего города — блокаде: девочка, стоящая у невской проруби, очередь за хлебом, согбенные люди, поддерживающие друг друга.
— Живя в Петербурге, художнику невозможно остаться в стороне от этой темы. События тех дней будоражат душу, задевают сердце, — говорит Ахнаф Гаделгаряевич.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Валентин Серов и Джованни Больдини - одни из главных певцов «прекрасной эпохи», запечатлевшие самый цвет петербургского и парижского высшего, светского общества рубежа XIX-ХХ столетий.
Экономический кризис и вызванное им резкое сокращение финансирования обострили вопрос о роли музеев в современном обществе. С одной стороны, они обязаны хранить и научно обоснованно выставлять свои коллекции, с другой — делать посещение музея для зрителей приятным и неутомительным.