Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Михаил КУРАЕВ
Тяжелый разговор
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Ana Municio on Unsplash
Дата публикации: 26 декабря 2024
20 марта 2009 года на одном из телеканалов состоялся разговор
на тяжкую и, к сожалению, актуальную тему нашей жизни — отменять ли
мораторий на смертную казнь или сохранять ее вплоть до отмены вовсе.
на тяжкую и, к сожалению, актуальную тему нашей жизни — отменять ли
мораторий на смертную казнь или сохранять ее вплоть до отмены вовсе.
Едва ли есть более важная тема, чем жизнь и смерть.
К обмену мнениями были приглашены юристы, врач-психотерапевт, священнослужитель. Комиссию по помилованию на территории Петербурга представляли директор Библиотеки Академии наук Валерий Леонов и ваш покорный слуга. Но главными участниками трудного и, увы, давно не теряющего своей злободневности разговора стала мать изнасилованной и убитой девочки и сами телезрители, многотысячным голосованием выразившие свою точку зрения.
Скажу сразу, есть великое множество вопросов, которые голосованием не решаются. Голосованием не решаются ни математические, ни религиозно-нравственные задачи, и юридические в том числе. И тем не менее голосование — самый убедительный способ в данном случае узнать настроение, сложившееся сегодня в обществе. А настроение, как показал опрос телезрителей, в течение одного часа смотревших программу лишь одного из множества телеканалов, дал картину вполне определенную. Из пяти тысяч откликнувшихся смерть убийцам потребовали четыре тысячи, и лишь один из пяти человек сегодня склонен считать жизнь убийцы священной, неприкосновенной, даром, не государством ему данным, и потому не государству этим даром и распоряжаться.
Страшное, тяжкое дело брать на себя, пусть только в воображении, роль судьи, распоряжающегося жизнью и смертью. Как показывает практика, и самые совершенные судебные системы не застрахованы от ошибки, тем более что всегда существуют определенные силы, делающие все возможное и невозможное, чтобы такая ошибка была совершена, и непременно в интересах реального преступника.
Сторонников беспощадного отношения к убийцам стараются изобразить человеконенавистниками, толкающими общество в варварство. «Что с нами станет через пятнадцать лет, если будут казнить? Мы никогда не станем Европой! От нас отвернется прогрессивное человечество!»
В этом адвокатском человеколюбии мне видится изрядная примесь лицемерия. 4 октября 1993 года я был в Москве и видел, как танки дубасили по Верховному совету прямой наводкой. Не видел только за весь день ни одного адвоката с плакатиком, требующим прекратить приведение в исполнение смертной казни без суда и следствия. А «благодарная Европа» и не менее благодарные Соединенные Штаты приветствовали кровопролитие. Не видел я и сведений о количестве убитых 4 октября. Где они были, защитники «не государством данной благодати»?
К обмену мнениями были приглашены юристы, врач-психотерапевт, священнослужитель. Комиссию по помилованию на территории Петербурга представляли директор Библиотеки Академии наук Валерий Леонов и ваш покорный слуга. Но главными участниками трудного и, увы, давно не теряющего своей злободневности разговора стала мать изнасилованной и убитой девочки и сами телезрители, многотысячным голосованием выразившие свою точку зрения.
Скажу сразу, есть великое множество вопросов, которые голосованием не решаются. Голосованием не решаются ни математические, ни религиозно-нравственные задачи, и юридические в том числе. И тем не менее голосование — самый убедительный способ в данном случае узнать настроение, сложившееся сегодня в обществе. А настроение, как показал опрос телезрителей, в течение одного часа смотревших программу лишь одного из множества телеканалов, дал картину вполне определенную. Из пяти тысяч откликнувшихся смерть убийцам потребовали четыре тысячи, и лишь один из пяти человек сегодня склонен считать жизнь убийцы священной, неприкосновенной, даром, не государством ему данным, и потому не государству этим даром и распоряжаться.
Страшное, тяжкое дело брать на себя, пусть только в воображении, роль судьи, распоряжающегося жизнью и смертью. Как показывает практика, и самые совершенные судебные системы не застрахованы от ошибки, тем более что всегда существуют определенные силы, делающие все возможное и невозможное, чтобы такая ошибка была совершена, и непременно в интересах реального преступника.
Сторонников беспощадного отношения к убийцам стараются изобразить человеконенавистниками, толкающими общество в варварство. «Что с нами станет через пятнадцать лет, если будут казнить? Мы никогда не станем Европой! От нас отвернется прогрессивное человечество!»
В этом адвокатском человеколюбии мне видится изрядная примесь лицемерия. 4 октября 1993 года я был в Москве и видел, как танки дубасили по Верховному совету прямой наводкой. Не видел только за весь день ни одного адвоката с плакатиком, требующим прекратить приведение в исполнение смертной казни без суда и следствия. А «благодарная Европа» и не менее благодарные Соединенные Штаты приветствовали кровопролитие. Не видел я и сведений о количестве убитых 4 октября. Где они были, защитники «не государством данной благодати»?
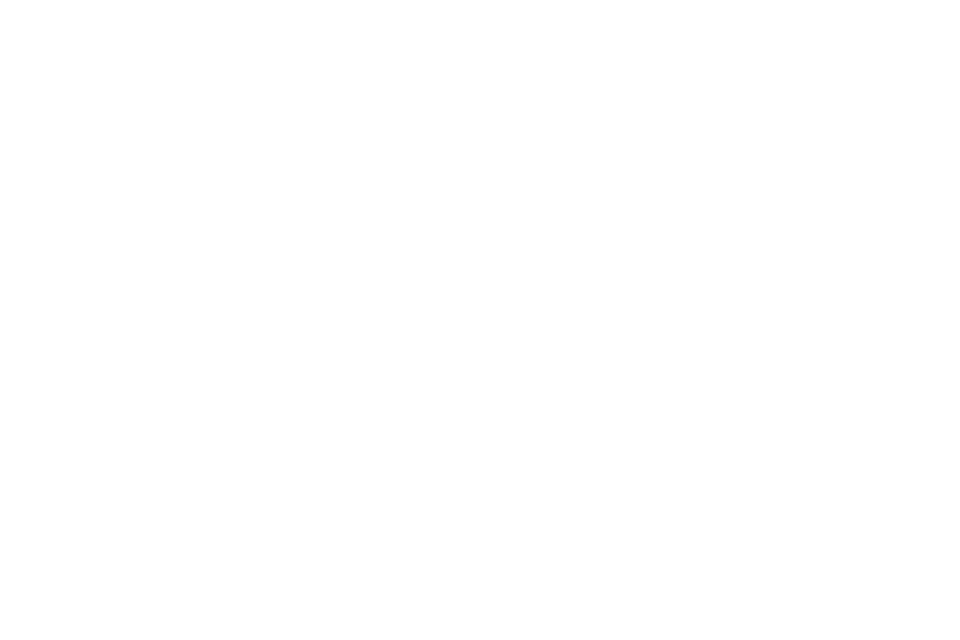
ФОТО Pixabay
Взглянем на реальное положение дел. Смертная казнь применяется без оглядок на закон и государством и криминалом, когда речь идет об интересах власти гражданской или криминальной. Они хорошо вооружены и на практике, в любой момент готовы эти интересы защищать.
Кто защитит нас? Кто защитит детей?
Комиссия по помилованию, где я имею честь состоять не первый год, это не комиссия по исповедованию и отпущению грехов. Нашу работу представляют, кто как хочет. Мы не пересматриваем приговоры суда, у нас нет на это полномочий. Мы не рассматриваем обращения осужденных, не признавших своей вины, это дело других инстанций. (Нам, к счастью, не пришлось ни препятствовать, ни одобрять смертные казни, поскольку действует мораторий на их исполнение.) А смысл этой, поверьте, подчас мучительной, работы в том, что обществу предоставлена возможность сегодня, до истечения срока наказания, понять главное: представляет ли осужденный угрозу для общества или то, что он уже получил и испытал, возымели благое действие.
Когда меня пригласили поработать в Комиссии по помилованию, я сразу же сказал, что я за смертную казнь, и предложил пригласить кого-нибудь пожалостливее. И вот урок. Одним из первых прошений, в обсуждении которого я принимал участие, было обращение человека, причастного к убийству нескольких человек и просившего о сокращении срока наказания. Мнения в комиссии разошлись. Мы с Андреем Константиновым ездили в тюрягу, говорили с администрацией, говорили с самим осужденным, и пришли к убеждению: нечего ему там больше делать. Девять лет, проведенные за решеткой, для человека, случайно оказавшегося соучастником страшного дела, кровь не проливавшего, достаточны. Учитывалось все, профессия (реставратор), образование (Академия художеств), склад ума, характер, поведение в течение отбывания срока, все, что только можно было узнать и учесть, было узнано и учтено. И никогда рука не поднялась бы голосовать за помилование или смягчение наказания насильнику и убийце детей.
Главный вопрос для нашей комиссии: кого мы рекомендуем президенту выпустить на свободу — притворившегося раскаявшимся или человека, не представляющего для общества опасность.
Когда нам говорят о достаточности для наказания преступника тюремного заключения или пребывания в исправительно-трудовом лагере, приходится вспомнить грустную статистику. Процент рецидивистов так высок, что говорить об «исправительном» характере наших узилищ не приходится.
Еще одна существенная подробность. Произнося направо и налево непростое слово «пенитенциарная» система, мало кто задается вопросом, а «пенитенциарий» это что такое? «Ну тюрьма», — слышишь в ответ. Так вот, не «ну тюрьма». Poenitentiarius — по латыни покаяние. Рассмотрев не одну сотню прошений, должен сказать, о раскаянии, о чувстве вины перед своими жертвами говорят единицы, едва ли наберется четыре-пять обращений, где осужденный действительно тяготится содеянным. Подавляющее большинство осужденных, вписав дежурную фразу «с приговором согласен», жалеют себя, жалеют своих стареньких родителей, жалеют оставленных детей и не испытывают жалости к тем, кому они испортили жизнь.
Жизнь человека свята! Общество должно быть милосердным и гуманным. Юстиция должна быть человечной и справедливой.
Но если юстиция выступает только комментатором к произошедшему, она не выполняет своей главной роли, она не защищает общество. А главное ее назначение я вижу в защите общества. Как можно защитить общество во время разгула криминала? Тюремное заключение не останавливает убийц. Тем более, чтобы получить пожизненное заключение, нужно убить не одного и не двух. Какой юридический цинизм. Как защитить общество? Как остановить убийц?
Я не знаю.
Но есть примеры. Человек, прилетающий в Сингапур, подписывает декларацию о том, что, в том случае если он окажется в любой форме причастен к ввозу, торговле или распространению наркотиков, его ожидает смертная казнь. И, представьте себе, в Сингапуре нет проблемы наркотиков. Нет. Весь мир задыхается, стонет, гибнут миллионы молодых жизней, наркобароны и наркокартели управляют политикой, а в Сингапуре наркотиков нет.
«Это жестоко!» «Это бесчеловечно!» «Нужно устранить примитивную месть!» Значит, не такая уж она и примитивная. И уж вовсе нельзя ее назвать бесполезной. Есть другой способ защитить людей от наркосмерти или кровавой смерти?
Приходится учитывать не теоретические постулаты, а реальную социально-политическую ситуацию в каждой стране. Мерки, которые вполне приемлемы для одной страны, увы, не всегда подходят другой.
Тяжко обо всем этом и думать, и говорить, но я не понимаю, что значит «оставаться человечными перед убийцами». Если это взрослые вменяемые люди, они обязаны знать о том, что Уголовный кодекс де-юре в России (статья 105) предусматривает смертную казнь для убийц. Значит, он сам, а не общество, не судьи, не кровожадный писатель приговаривает убийцу к смерти, это его выбор. Этот выбор сделал тот, кто завел в подвал ребенка, изнасиловал и убил. Это его решение. А не мое. Только он знал, что у нас «человечное» правосудие, что за его жизнь стеной встанут добрые адвокаты, его жизнь объявят священной, и поэтому он еще трех девочек насилует и убивает.
Очень хочется быть добрым, человеколюбивым, милосердным, не быть ни варваром, ни палачом, но кто защитит девочек от насильников и убийц?
Кто защитит нас? Кто защитит детей?
Комиссия по помилованию, где я имею честь состоять не первый год, это не комиссия по исповедованию и отпущению грехов. Нашу работу представляют, кто как хочет. Мы не пересматриваем приговоры суда, у нас нет на это полномочий. Мы не рассматриваем обращения осужденных, не признавших своей вины, это дело других инстанций. (Нам, к счастью, не пришлось ни препятствовать, ни одобрять смертные казни, поскольку действует мораторий на их исполнение.) А смысл этой, поверьте, подчас мучительной, работы в том, что обществу предоставлена возможность сегодня, до истечения срока наказания, понять главное: представляет ли осужденный угрозу для общества или то, что он уже получил и испытал, возымели благое действие.
Когда меня пригласили поработать в Комиссии по помилованию, я сразу же сказал, что я за смертную казнь, и предложил пригласить кого-нибудь пожалостливее. И вот урок. Одним из первых прошений, в обсуждении которого я принимал участие, было обращение человека, причастного к убийству нескольких человек и просившего о сокращении срока наказания. Мнения в комиссии разошлись. Мы с Андреем Константиновым ездили в тюрягу, говорили с администрацией, говорили с самим осужденным, и пришли к убеждению: нечего ему там больше делать. Девять лет, проведенные за решеткой, для человека, случайно оказавшегося соучастником страшного дела, кровь не проливавшего, достаточны. Учитывалось все, профессия (реставратор), образование (Академия художеств), склад ума, характер, поведение в течение отбывания срока, все, что только можно было узнать и учесть, было узнано и учтено. И никогда рука не поднялась бы голосовать за помилование или смягчение наказания насильнику и убийце детей.
Главный вопрос для нашей комиссии: кого мы рекомендуем президенту выпустить на свободу — притворившегося раскаявшимся или человека, не представляющего для общества опасность.
Когда нам говорят о достаточности для наказания преступника тюремного заключения или пребывания в исправительно-трудовом лагере, приходится вспомнить грустную статистику. Процент рецидивистов так высок, что говорить об «исправительном» характере наших узилищ не приходится.
Еще одна существенная подробность. Произнося направо и налево непростое слово «пенитенциарная» система, мало кто задается вопросом, а «пенитенциарий» это что такое? «Ну тюрьма», — слышишь в ответ. Так вот, не «ну тюрьма». Poenitentiarius — по латыни покаяние. Рассмотрев не одну сотню прошений, должен сказать, о раскаянии, о чувстве вины перед своими жертвами говорят единицы, едва ли наберется четыре-пять обращений, где осужденный действительно тяготится содеянным. Подавляющее большинство осужденных, вписав дежурную фразу «с приговором согласен», жалеют себя, жалеют своих стареньких родителей, жалеют оставленных детей и не испытывают жалости к тем, кому они испортили жизнь.
Жизнь человека свята! Общество должно быть милосердным и гуманным. Юстиция должна быть человечной и справедливой.
Но если юстиция выступает только комментатором к произошедшему, она не выполняет своей главной роли, она не защищает общество. А главное ее назначение я вижу в защите общества. Как можно защитить общество во время разгула криминала? Тюремное заключение не останавливает убийц. Тем более, чтобы получить пожизненное заключение, нужно убить не одного и не двух. Какой юридический цинизм. Как защитить общество? Как остановить убийц?
Я не знаю.
Но есть примеры. Человек, прилетающий в Сингапур, подписывает декларацию о том, что, в том случае если он окажется в любой форме причастен к ввозу, торговле или распространению наркотиков, его ожидает смертная казнь. И, представьте себе, в Сингапуре нет проблемы наркотиков. Нет. Весь мир задыхается, стонет, гибнут миллионы молодых жизней, наркобароны и наркокартели управляют политикой, а в Сингапуре наркотиков нет.
«Это жестоко!» «Это бесчеловечно!» «Нужно устранить примитивную месть!» Значит, не такая уж она и примитивная. И уж вовсе нельзя ее назвать бесполезной. Есть другой способ защитить людей от наркосмерти или кровавой смерти?
Приходится учитывать не теоретические постулаты, а реальную социально-политическую ситуацию в каждой стране. Мерки, которые вполне приемлемы для одной страны, увы, не всегда подходят другой.
Тяжко обо всем этом и думать, и говорить, но я не понимаю, что значит «оставаться человечными перед убийцами». Если это взрослые вменяемые люди, они обязаны знать о том, что Уголовный кодекс де-юре в России (статья 105) предусматривает смертную казнь для убийц. Значит, он сам, а не общество, не судьи, не кровожадный писатель приговаривает убийцу к смерти, это его выбор. Этот выбор сделал тот, кто завел в подвал ребенка, изнасиловал и убил. Это его решение. А не мое. Только он знал, что у нас «человечное» правосудие, что за его жизнь стеной встанут добрые адвокаты, его жизнь объявят священной, и поэтому он еще трех девочек насилует и убивает.
Очень хочется быть добрым, человеколюбивым, милосердным, не быть ни варваром, ни палачом, но кто защитит девочек от насильников и убийц?
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
«Газетная утка» — весьма широко распространенное понятие: оно вошло и в быт, и в разговорный язык. Существует несколько версий возникновения термина. первые «утки» появились в немецких газетах еще в семнадцатом веке. Тогда редакторы, утверждая к печати заметки, не отличавшиеся особым правдоподобием.
В ежовых рукавицах держат строгие преподаватели студентов, и из ветреной молодежи выходит толк. В ежовых рукавицах держат своих подчиненных властные начальники, и бывает, что коллектив показывает фантастическую производительность труда. Что за рукавицы такие волшебные?