Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Ольга Шервуд
Восемь с половиной
Ильи Авербаха
Ильи Авербаха
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Denise Jans on Unsplash
Дата публикации: 9 января 2025
Илья Авербах (1934 — 1986) был врачом, затем закончил высшие сценарные, а после и режиссерские курсы. При жизни стал считаться классиком «Ленфильма», хотя успел сделать всего восемь с половиной картин: новеллу в «Личной жизни Кузяева Валентина» Игоря Масленникова (1967), а также «Степень риска» (1968), «Драму из старинной жизни» (1971), «Монолог» (1972), «Чужие письма» (1975), «Объяснение в любви» (1977), «Фантазии Фарятьева» (1979), «Голос» (1982), «На берегах пленительных Невы» (1983, документальный).
Все его фильмы — про интеллигентов, он и сам вошел в студийное предание как образцовый пример этого типа людей; их остались единицы, «теперь таких не делают», и наше кино в редких образцах тоскует о подобных героях.
Про Авербаха вспоминает художник Владимир СВЕТОЗАРОВ, который работал с режиссером на всех его картинах, начиная с «Чужих писем».
Все его фильмы — про интеллигентов, он и сам вошел в студийное предание как образцовый пример этого типа людей; их остались единицы, «теперь таких не делают», и наше кино в редких образцах тоскует о подобных героях.
Про Авербаха вспоминает художник Владимир СВЕТОЗАРОВ, который работал с режиссером на всех его картинах, начиная с «Чужих писем».
Не буду говорить ничего глубокомысленного, это пусть критики пишут... Илья Александрович ко мне очень трогательно относился. Он вообще очень нежен был к художникам и переживал, что сам абсолютно не умеет рисовать. И когда из-под моей руки выходили какие-то даже корявые наброски, был в полном восторге. Единственное, чего он боялся, — того, чтобы я не превратился в такого прожженного кинематографиста. И в обывателя — скучного, не рвущегося никуда, банального, унылого мещанина.
Однажды немногочисленная семья укорила меня соседом, который всячески помогал по хозяйству. Стало стыдно, я пошел на Ситный рынок и купил картошку, какой-то лук зеленый большущий... Неважно; важно, что нагруженный огромными нелепыми пакетами, с торчащим этим луком, иду я по улице Мира, а навстречу — Авербах. Элегантный, в твидовом пиджаке, слегка скособочившись он чуть-чуть ходил, трубочка у него. Все обращают на него внимание, потому что очень красивый мужчина.
А тут, повторю, я с этими пакетами. Авербах вытаращил глаза: «Володя, это вы?» — «Да, Илья Александрович, а что такое?» — «Знаете, вы все больше и больше напоминаете дачного мужа. А где июньский закат? Где мансарда? Где наспех приготовленная яичница? Где красное вино, обнаженные натурщицы? Где все это???»
Пыхнул трубочкой и ушел.
С тех пор я на рынок ни шагу. Вот такая была короткая, но нравоучительная история. Связанная с выдающимся парнем Ильей Авербахом.
Многие считали, что он такой режиссер режиссерыч, неприступный, недоступный, нелюдимый, высокомерный, высокопарный. А на самом деле очень был веселый, смешной человек, очень любил спорт. Эта любовь нас очень сдружила. Он хотел быть спортивным комментатором и пописывал в журнале «Юность» на спортивные темы. Да, да. Не удивляйтесь. Он говорит однажды: «Ну-ка, назовите мне, пожалуйста, из английской высшей лиги хотя бы десять команд». Я начал: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвер-тон»...» В общем, пять команд назвал. Он сказал: «Володя, ну какой же вы болельщик!..» И перечислил все команды высшей лиги. Я обалдел.
Однажды немногочисленная семья укорила меня соседом, который всячески помогал по хозяйству. Стало стыдно, я пошел на Ситный рынок и купил картошку, какой-то лук зеленый большущий... Неважно; важно, что нагруженный огромными нелепыми пакетами, с торчащим этим луком, иду я по улице Мира, а навстречу — Авербах. Элегантный, в твидовом пиджаке, слегка скособочившись он чуть-чуть ходил, трубочка у него. Все обращают на него внимание, потому что очень красивый мужчина.
А тут, повторю, я с этими пакетами. Авербах вытаращил глаза: «Володя, это вы?» — «Да, Илья Александрович, а что такое?» — «Знаете, вы все больше и больше напоминаете дачного мужа. А где июньский закат? Где мансарда? Где наспех приготовленная яичница? Где красное вино, обнаженные натурщицы? Где все это???»
Пыхнул трубочкой и ушел.
С тех пор я на рынок ни шагу. Вот такая была короткая, но нравоучительная история. Связанная с выдающимся парнем Ильей Авербахом.
Многие считали, что он такой режиссер режиссерыч, неприступный, недоступный, нелюдимый, высокомерный, высокопарный. А на самом деле очень был веселый, смешной человек, очень любил спорт. Эта любовь нас очень сдружила. Он хотел быть спортивным комментатором и пописывал в журнале «Юность» на спортивные темы. Да, да. Не удивляйтесь. Он говорит однажды: «Ну-ка, назовите мне, пожалуйста, из английской высшей лиги хотя бы десять команд». Я начал: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвер-тон»...» В общем, пять команд назвал. Он сказал: «Володя, ну какой же вы болельщик!..» И перечислил все команды высшей лиги. Я обалдел.
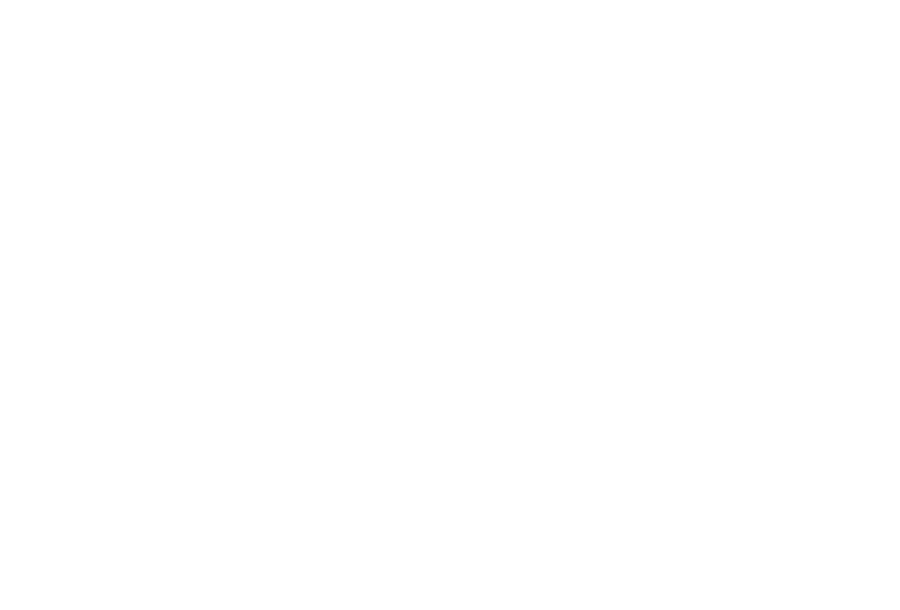
На площадке фильма
«Монолог».
Режиссер-постановщик
И. Авербах (слева)
и члены съемочной
группы.
ФОТО из архива редакции
«Монолог».
Режиссер-постановщик
И. Авербах (слева)
и члены съемочной
группы.
ФОТО из архива редакции
— Неужели он сам и играл?
— Было такое отдельное понятие — репинский футбол. В Репине, на поле, которое лежит между железнодорожной станцией и Домом творчества кинематографистов, собиралась загадочная компания. Она состояла из местных хулиганов, может, даже бандитов, барменов, бывших спортсменов. Публика разношерстная. И я там тоже играл в футбол. Авербах однажды работал в Доме творчества, встретил меня и говорит: «Володя, понимаете, я слышу такой густой мат, что его можно резать ножом. Откуда это?» — «Это вот мы в футбол играем».
Авербах взял да пришел посмотреть, как мы играем. А судьи не было. Тогда мои гопники говорят: «Вовчик, а это что за мужик? Пусть посудит!» — «Ммм...» — «Пусть посудит, здоровый же парень!»
Тогда я спросил: «Илья Александрович, может, вы посудите?» — и Авербах согласился.
— Уже он был мэтр?
— Да, конечно!.. На пятой минуте раздались вопли: «Вова, кто этот — тра-та-та — кого ты привел? тра-та-та... он не понимает в футболе!».
И надо отдать должное: Авербах, обливаясь потом, стиснув зубы, продолжал судить весь матч. А потом сел на скамейку, усталый, и подошел Ванька-рыжий, мясник, он и сейчас работает мясником в Автове на рынке, и сказал: «Слушай, мужик, мы судье платим. Собираем по рублю, но сегодня, понимаешь, только девятнадцать рублей тебе дадим. У Павлова, как всегда, нет рубля. На портвейн есть, а на судью нет. Он должен будет тебе рубль».
— Почему не двадцать два?
— Ну когда сколько народу собиралось... зимой, бывало, играли семь на семь. А в тот день — десять на десять, я точно помню сумму.
Авербах трогательно взял эти девятнадцать рублей. На следующий день, встретив меня на студии: «Володя, как скучна, как, оказывается, неинтересна эта ленфильмовская жизнь! Теперь я понимаю, почему у вас все время блестят глаза, есть задор и всегда хорошее настроение. Эти девяносто минут в Репине показали мне, что существует великая другая жизнь», — произнес он без всякой иронии.
— А какую-нибудь историю,связанную с кино?
— Ну хорошо. Нынешние режиссеры в большинстве своем ничего не понимают в изобразительном строе фильма и просто говорят: давайте шкаф поставим там... нет, давайте тут... Вот и вся режиссерская работа по части изображения. Те, кто видел фильмы Авербаха, чувствуют и понимают, что он придавал изображению гигантское значение. Никогда не говорил ни про какие шкафы, а вручал ключ к решению задачи.
Допустим, в «Объяснении в любви» комната Зиночки. Ее играла Эва Шикульска. Я никак не мог понять, кто эта Зиночка, что у нее за характер. Что у нее за комната? Ведь известно, что интерьер — материализованный характер героя. Войдя в квартиру,мы сразу можем понять, кто там живет: женщина или мужчина, интеллигентный человек или нет, бедный или богатый. Интерьер — очень важная вещь; этому меня тоже научил, в частности, Авербах... И тут он сказал : «Комната Зиночки — это честная бедность.Представьте себе,что скатерть заштопана трогательно, но выстирана и гладко выглажена».
— Было такое отдельное понятие — репинский футбол. В Репине, на поле, которое лежит между железнодорожной станцией и Домом творчества кинематографистов, собиралась загадочная компания. Она состояла из местных хулиганов, может, даже бандитов, барменов, бывших спортсменов. Публика разношерстная. И я там тоже играл в футбол. Авербах однажды работал в Доме творчества, встретил меня и говорит: «Володя, понимаете, я слышу такой густой мат, что его можно резать ножом. Откуда это?» — «Это вот мы в футбол играем».
Авербах взял да пришел посмотреть, как мы играем. А судьи не было. Тогда мои гопники говорят: «Вовчик, а это что за мужик? Пусть посудит!» — «Ммм...» — «Пусть посудит, здоровый же парень!»
Тогда я спросил: «Илья Александрович, может, вы посудите?» — и Авербах согласился.
— Уже он был мэтр?
— Да, конечно!.. На пятой минуте раздались вопли: «Вова, кто этот — тра-та-та — кого ты привел? тра-та-та... он не понимает в футболе!».
И надо отдать должное: Авербах, обливаясь потом, стиснув зубы, продолжал судить весь матч. А потом сел на скамейку, усталый, и подошел Ванька-рыжий, мясник, он и сейчас работает мясником в Автове на рынке, и сказал: «Слушай, мужик, мы судье платим. Собираем по рублю, но сегодня, понимаешь, только девятнадцать рублей тебе дадим. У Павлова, как всегда, нет рубля. На портвейн есть, а на судью нет. Он должен будет тебе рубль».
— Почему не двадцать два?
— Ну когда сколько народу собиралось... зимой, бывало, играли семь на семь. А в тот день — десять на десять, я точно помню сумму.
Авербах трогательно взял эти девятнадцать рублей. На следующий день, встретив меня на студии: «Володя, как скучна, как, оказывается, неинтересна эта ленфильмовская жизнь! Теперь я понимаю, почему у вас все время блестят глаза, есть задор и всегда хорошее настроение. Эти девяносто минут в Репине показали мне, что существует великая другая жизнь», — произнес он без всякой иронии.
— А какую-нибудь историю,связанную с кино?
— Ну хорошо. Нынешние режиссеры в большинстве своем ничего не понимают в изобразительном строе фильма и просто говорят: давайте шкаф поставим там... нет, давайте тут... Вот и вся режиссерская работа по части изображения. Те, кто видел фильмы Авербаха, чувствуют и понимают, что он придавал изображению гигантское значение. Никогда не говорил ни про какие шкафы, а вручал ключ к решению задачи.
Допустим, в «Объяснении в любви» комната Зиночки. Ее играла Эва Шикульска. Я никак не мог понять, кто эта Зиночка, что у нее за характер. Что у нее за комната? Ведь известно, что интерьер — материализованный характер героя. Войдя в квартиру,мы сразу можем понять, кто там живет: женщина или мужчина, интеллигентный человек или нет, бедный или богатый. Интерьер — очень важная вещь; этому меня тоже научил, в частности, Авербах... И тут он сказал : «Комната Зиночки — это честная бедность.Представьте себе,что скатерть заштопана трогательно, но выстирана и гладко выглажена».
Фото Denise Jans on Unsplash
Сразу все стало ясно, и я— не побоюсь этого слова— с блеском сделал декорацию. Вот так он умно, тонко и в то же время понятно объяснял задачу. А то столько есть режиссеров, которые изображают из себя глубокомысленных людей, общаясь с группой на птичьем языке. Был случай, когда в беседе с одним таким, молодым, единственное слово, которое я понял, было «прострация». Авербах же всегда говорил человеческим языком.
Сложнейшая картина «Фантазии Фарятьева». Казалось бы, современная квартира в типовой пятиэтажке, где живут сестры, их играли Неелова и Крючкова, и мама — Шарко. Но проще делать старую, старинную антикварную квартиру, чем современную,и я никак не мог ничего сообразить... Авербах помог: «Ну представьте себе, женщины — это курицы; только никому не говорите. Это такой куриный женский мир. Какие-то скомканные чулки, подгоревшая кастрюля... зеркальце... попытки привести себя в порядок... какие-то домашние тапочки... Они курицы. Хлопают крыльями — но взлететь никак не могут».
Вот вам в пяти предложениях — ключ к изобразительному решению фильма.
— Полагаю, он так относился только к героиням этой истории...
— Ну конечно!
— А про «Голос» расскажете?
— Нет. Многие считают, что «Голос» — его предчувствие болезни... Мне тема не нравится.
Сразу все стало ясно, и я— не побоюсь этого слова— с блеском сделал декорацию. Вот так он умно, тонко и в то же время понятно объяснял задачу. А то столько есть режиссеров, которые изображают из себя глубокомысленных людей, общаясь с группой на птичьем языке. Был случай, когда в беседе с одним таким, молодым, единственное слово, которое я понял, было «прострация». Авербах же всегда говорил человеческим языком.
Сложнейшая картина «Фантазии Фарятьева». Казалось бы, современная квартира в типовой пятиэтажке, где живут сестры, их играли Неелова и Крючкова, и мама — Шарко. Но проще делать старую, старинную антикварную квартиру, чем современную,и я никак не мог ничего сообразить... Авербах помог: «Ну представьте себе, женщины — это курицы; только никому не говорите. Это такой куриный женский мир. Какие-то скомканные чулки, подгоревшая кастрюля... зеркальце... попытки привести себя в порядок... какие-то домашние тапочки... Они курицы. Хлопают крыльями — но взлететь никак не могут».
Вот вам в пяти предложениях — ключ к изобразительному решению фильма.
— Полагаю, он так относился только к героиням этой истории...
— Ну конечно!
— А про «Голос» расскажете?
— Нет. Многие считают, что «Голос» — его предчувствие болезни... Мне тема не нравится.
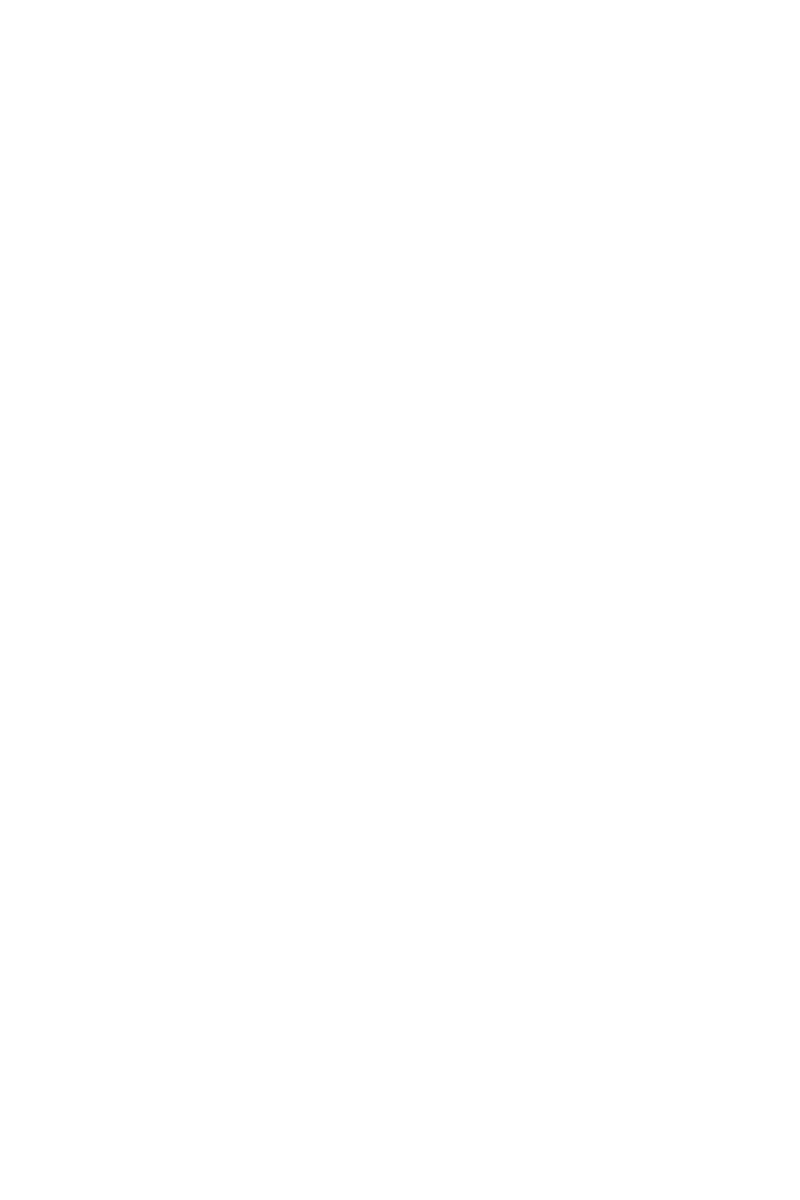
— А мне очень нравится картина. Она ведь про «Ленфильм» тоже.
— Картина хорошая. Могу сказать, что Авербах был как бы цензором вкуса. При нем стыдно было говорить банальности, рассказывать пошлые анекдоты, халтурить, плохо рисовать, плохо работать. Хотя он никогда не кричал, в отличие от многих современных режиссеров не топал ножками. Но почему-то не хотелось перед ним быть бездарным, скучным, глупым и неумелым.
Теперь таких людей на студии, к сожалению, нет. И Авербаха остро не хватает. Не хватает его картин, которые мало кто знает почему-то. «Голос» не помню когда и показывали по телевизору. Фильмы Авербаха — выдающиеся. «Монолог» один чего стоит. Он был очень талантливый человек. Я так считаю не потому, что с ним работал.
Понимаете, он меня взял совершенно не обученным, не прошедшим горнило кино, это были первые мои после института работы. И был тот «Ленфильм», когда все собирались в кафе сразу после худсовета и обсуждали каждую картину. Восторженно или ругательно, часами... Однажды какая-то женщина, очень такая серьезная... с виду театровед или киновед... — указала кому-то на меня: «Вот художник Авербаха». И я дико гордился и запомнил это на всю жизнь.
— Картина хорошая. Могу сказать, что Авербах был как бы цензором вкуса. При нем стыдно было говорить банальности, рассказывать пошлые анекдоты, халтурить, плохо рисовать, плохо работать. Хотя он никогда не кричал, в отличие от многих современных режиссеров не топал ножками. Но почему-то не хотелось перед ним быть бездарным, скучным, глупым и неумелым.
Теперь таких людей на студии, к сожалению, нет. И Авербаха остро не хватает. Не хватает его картин, которые мало кто знает почему-то. «Голос» не помню когда и показывали по телевизору. Фильмы Авербаха — выдающиеся. «Монолог» один чего стоит. Он был очень талантливый человек. Я так считаю не потому, что с ним работал.
Понимаете, он меня взял совершенно не обученным, не прошедшим горнило кино, это были первые мои после института работы. И был тот «Ленфильм», когда все собирались в кафе сразу после худсовета и обсуждали каждую картину. Восторженно или ругательно, часами... Однажды какая-то женщина, очень такая серьезная... с виду театровед или киновед... — указала кому-то на меня: «Вот художник Авербаха». И я дико гордился и запомнил это на всю жизнь.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Семья Шабуниных обосновалась в Лесном с 1906 года, перебравшись из центра Петербурга. Причиной переезда в пригород стали проблемы со здоровьем дочери Шабуниных Евгении: доктора посоветовали покинуть пыльный город и переехать в Лесной.
Оканчивая московское Строгановское художественнопромышленное училище, Сергей Евсеев и во сне не мог увидеть, что через два десятилетия станет автором знаменитого на весь мир памятника.