Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Ольга Шервуд
Чистейшего звука высокая власть
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Clark Young on Unsplash
Дата публикации: 11 ноября 2024
Светлана Крючкова поделилась с нашим обозревателем, созданной программой «Путем всея земли...», в которой собраны произведения разных лет, а также рассказала о своей главной роли в фильме Дмитрия Томашпольского «Луна в зените», российская премьера которого состоялась в середине июня 2009 года на канале «Культура».
-Много лет я читаю со сцены Цветаеву, Ахматову, Петровых. Я лучше чувствую женскую поэзию; мне кажется, что достаточно доступно и в то же время неожиданно для слушателя умею доносить нюансы женской души. Может, в силу уже и возраста, и опыта накопленного, любовного в том числе, женского, душевного... Мужчину я так понять не могу. Да и не надо. Это их.
При этом — да, поэт, а не поэтесса. Слово «поэтесса» у меня рифмуется с «Зинаида Гиппиус», «Черубина де Габриак»; в нем что-то пошловатое. Думаю, именно этот оттенок пошлости заставил и Ахматову, и Цветаеву говорить о себе «поэт». Забавно, что Цветаева отказывала Ахматовой в этом «праве», Анна же Андреевна говорила, что ВСЕГДА следует говорить: поэт.
Два поэта. Два великих поэта. Две трагические фигуры, две трагические судьбы. Я не читала Сафо в подлиннике, но все-таки считаю, что нет в мировой поэзии женщин, им равных. Гений выше, конечно, чем пол, но и пол важен. Не будь Ахматова женщиной, были бы совсем иные стихи. «Реквием» написан женщиной:
При этом — да, поэт, а не поэтесса. Слово «поэтесса» у меня рифмуется с «Зинаида Гиппиус», «Черубина де Габриак»; в нем что-то пошловатое. Думаю, именно этот оттенок пошлости заставил и Ахматову, и Цветаеву говорить о себе «поэт». Забавно, что Цветаева отказывала Ахматовой в этом «праве», Анна же Андреевна говорила, что ВСЕГДА следует говорить: поэт.
Два поэта. Два великих поэта. Две трагические фигуры, две трагические судьбы. Я не читала Сафо в подлиннике, но все-таки считаю, что нет в мировой поэзии женщин, им равных. Гений выше, конечно, чем пол, но и пол важен. Не будь Ахматова женщиной, были бы совсем иные стихи. «Реквием» написан женщиной:
Легкие летят недели.
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели.
Или это «Подражание армянскому»:
Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь,
как бусу,
Светлой волей Аллаха
храним...
И пришелся ль сынок мой
по вкусу
И тебе, и деткам твоим?»
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели.
Или это «Подражание армянскому»:
Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь,
как бусу,
Светлой волей Аллаха
храним...
И пришелся ль сынок мой
по вкусу
И тебе, и деткам твоим?»
Фото Chris Radevich on Unsplash
Мужчина не мог так написать. И я доверяюсь подсознанию. Мой старший сын, когда был маленький, сказал однажды: «Мамочка, твой большой ум не помещается в твоей голове, и половина его ушла в твой животик. И поэтому у тебя животный ум». У меня и правда «животный» ум.
Анна Андреевна родилась 23 июня, я — 22-го. У Раков гигантская интуиция. Я ничего «не делаю головой» в искусстве, в творческих проектах. Я слушаю именно свой «живот». И хотя иной раз не могу выдать какую-то формулировку, мне кажется, понимаю, о чем Ахматова говорила. Например, не могу сказать, почему меня так потрясло стихотворение, написанное в 1916 году, то есть еще при царе, а ей было 27 лет.
О Боже, за себя я все могу
простить,
Но лучше б ястребом
ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить
в поле,
Чем человеком быть
и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь
тлетворный срам
Не сметь поднять глаза
к высоким небесам.
Мужчина не мог так написать. И я доверяюсь подсознанию. Мой старший сын, когда был маленький, сказал однажды: «Мамочка, твой большой ум не помещается в твоей голове, и половина его ушла в твой животик. И поэтому у тебя животный ум». У меня и правда «животный» ум.
Анна Андреевна родилась 23 июня, я — 22-го. У Раков гигантская интуиция. Я ничего «не делаю головой» в искусстве, в творческих проектах. Я слушаю именно свой «живот». И хотя иной раз не могу выдать какую-то формулировку, мне кажется, понимаю, о чем Ахматова говорила. Например, не могу сказать, почему меня так потрясло стихотворение, написанное в 1916 году, то есть еще при царе, а ей было 27 лет.
О Боже, за себя я все могу
простить,
Но лучше б ястребом
ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить
в поле,
Чем человеком быть
и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь
тлетворный срам
Не сметь поднять глаза
к высоким небесам.
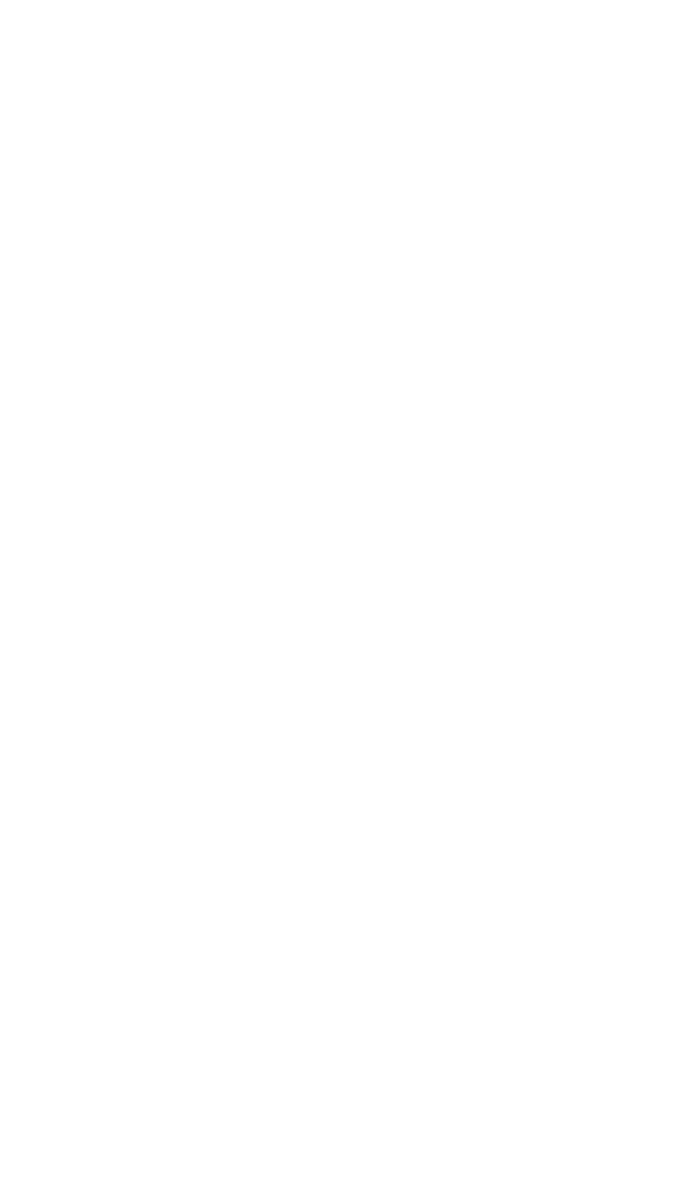
Короткое стихотворение, а сразу видно, что в Ахматовой ВСЕ было с самого начала. И неправда, что 1910-е в ее творчестве — исключительно «Бродячая собака» и постоянно цитируемая строчка «Все мы бражники здесь, блудницы...» и так далее. Что «лишь потом» она «пришла к «Реквиему»...
Вообще что значит — понимать поэта? В 1965 году Анна Андреевна заехала после Оксфорда в Париж и разговаривала со Струве, в книге «Анна Ахматова: pro et contra» есть запись. Прочитав там, в Париже, статью Синявского о ней, Ахматова среди прочего сказала, что, мол, Синявский знал всю мою поэзию — и ничего не понял про меня. А Недоброво Николай Владимирович (который писал о ней в 1915-м, а в 1919-м умер) знал только две ее первые книги — и «понял меня насквозь».
На каком уровне идет понимание поэзии? Дано или не дано слышать нам. Говорим: третий глаз, а как называть особый слух? Как мы слышим друг друга? Так ведь происходит и с любовью. Я всегда сравниваю любовь и искусство: что-то сверкнет между двумя людьми, в толпе увидишь и поймешь: это он. Так чувствуешь и своего поэта.
Вообще что значит — понимать поэта? В 1965 году Анна Андреевна заехала после Оксфорда в Париж и разговаривала со Струве, в книге «Анна Ахматова: pro et contra» есть запись. Прочитав там, в Париже, статью Синявского о ней, Ахматова среди прочего сказала, что, мол, Синявский знал всю мою поэзию — и ничего не понял про меня. А Недоброво Николай Владимирович (который писал о ней в 1915-м, а в 1919-м умер) знал только две ее первые книги — и «понял меня насквозь».
На каком уровне идет понимание поэзии? Дано или не дано слышать нам. Говорим: третий глаз, а как называть особый слух? Как мы слышим друг друга? Так ведь происходит и с любовью. Я всегда сравниваю любовь и искусство: что-то сверкнет между двумя людьми, в толпе увидишь и поймешь: это он. Так чувствуешь и своего поэта.
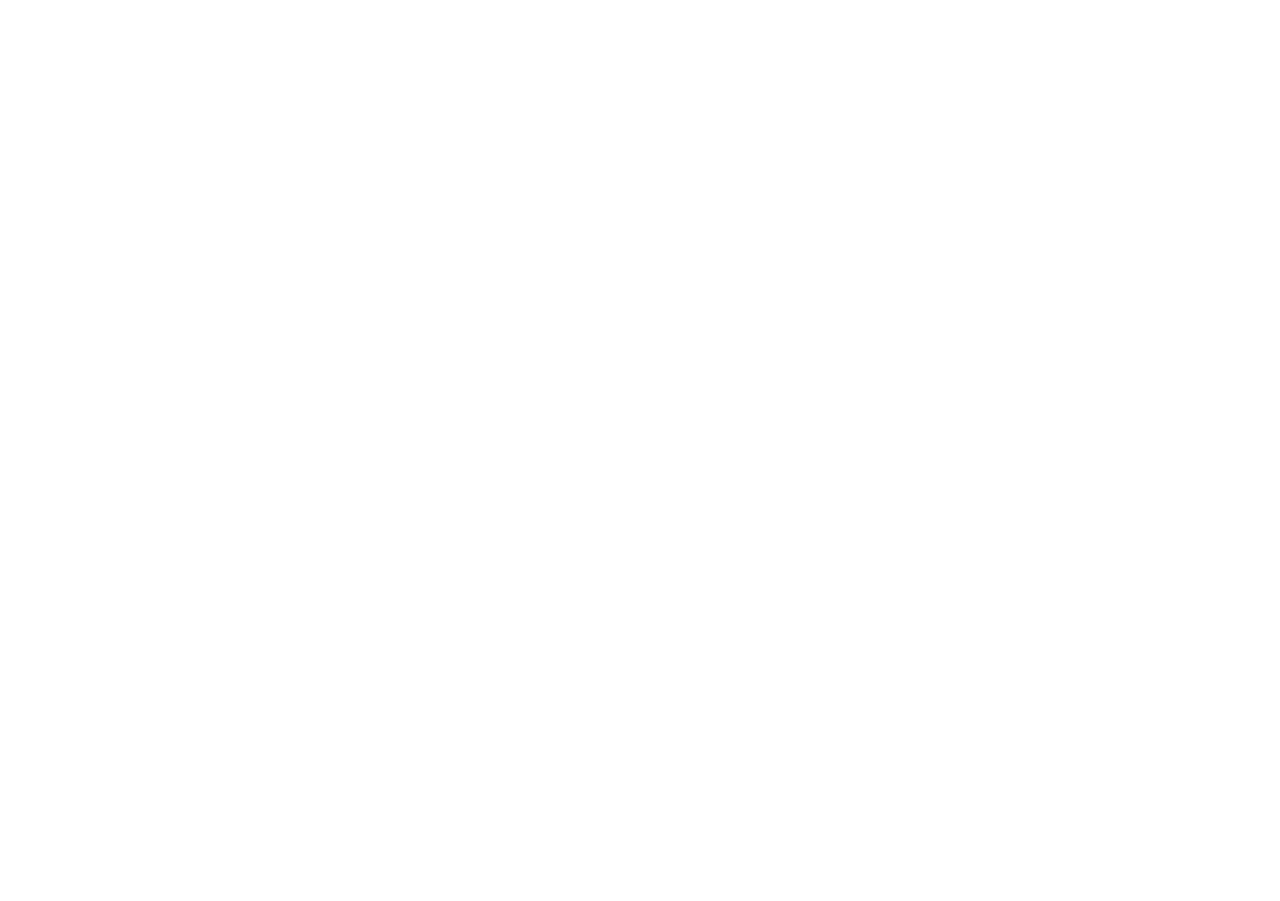
Читая со сцены стихи, стараюсь ничего не исказить неточной интонацией, а значит — трактовкой. Я же не литературовед. Может, неловко рассказывать, но мне очень важно мнение профессионалов. Ирма Викторовна Кудрова большую часть жизни посвятила изучению творчества и жизни Цветаевой; я очень сильно испугалась, увидев ее в Филармонии, где я читала программу к 115-летию Цветаевой «Я любовь узнаю? по боли...». А потом услышала высшую похвалу: она сказала, что не только каждое слово — каждый слог верен был...
И ахматовская программа была ею оценена очень высоко — словами о том, что на сцене не было актрисы, а был человек, умный и любящий поэта бесконечно. Более того, Ирма Викторовна даже призналась, что пересмотрела свое отношение к самой Ахматовой... Но не менее важной была одна записка из публики: «Спасибо за ваш колоссальный труд». Значит, все-таки увидели.
И ахматовская программа была ею оценена очень высоко — словами о том, что на сцене не было актрисы, а был человек, умный и любящий поэта бесконечно. Более того, Ирма Викторовна даже призналась, что пересмотрела свое отношение к самой Ахматовой... Но не менее важной была одна записка из публики: «Спасибо за ваш колоссальный труд». Значит, все-таки увидели.
Не объяснить, почему строчки звучат так, а не иначе. Просто я понимаю, что именно этими словами выражается то, что чувствую и я. Ведь и Ахматова написала: «И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мною...». Она голос эпохи, не зря ее так и называли: «Эпоха». Кстати, вот что еще потрясающе: она родилась в 1889-м, в 1890-м родился Пастернак, в 1891-м Мандельштам и в 1892-м — Цветаева. Что такое это было? Мария Петровых не зря написала:
Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака —
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!..
Так вот, Ахматова с конца XIX века по конец ее собственной земной жизни в 1966-м все вобрала, все отразила в своих стихах. Все, что происходило со страной в целом и с каждым человеком отдельно. Простые строчки: «Полно мне леденеть от страха...» — леденеть! вот что делала вся страна... — «Лучше кликну Чакону Баха...». Я недавно с одним композитором поспорила, который говорил, что не любит это «кликну». А суть в том, что он слышит это слово как «Эй ты, поди сюда!». А я по-другому: Ахматова цепляется за эту Чакону, как за хвост кометы, которая может вытащить ее из мрака, поднять ввысь... Мне ясно, что это так.
Поразительно, что она однажды сказала Шилейко, а Вольдемар Казимирович тогда был ее мужем, что настанет время и его спросят: « Как вы могли бросить Ахматову?», — а он ответит: «Я нашел лучше». Так и случилось. Но, знаете, я вообще не представляю себе, что это за муж — знал пятьдесят два языка. Правильно говорил Гумилев, что это не муж, это катастрофа!.. Именно Шилейко, напомню, назвал Ахматову Акумой — «Ведьма, колдунья» с древнеяпонского, ...многие считали, что в Ахматовой есть «что-то». Ведь так?
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.
Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака —
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!..
Так вот, Ахматова с конца XIX века по конец ее собственной земной жизни в 1966-м все вобрала, все отразила в своих стихах. Все, что происходило со страной в целом и с каждым человеком отдельно. Простые строчки: «Полно мне леденеть от страха...» — леденеть! вот что делала вся страна... — «Лучше кликну Чакону Баха...». Я недавно с одним композитором поспорила, который говорил, что не любит это «кликну». А суть в том, что он слышит это слово как «Эй ты, поди сюда!». А я по-другому: Ахматова цепляется за эту Чакону, как за хвост кометы, которая может вытащить ее из мрака, поднять ввысь... Мне ясно, что это так.
Поразительно, что она однажды сказала Шилейко, а Вольдемар Казимирович тогда был ее мужем, что настанет время и его спросят: « Как вы могли бросить Ахматову?», — а он ответит: «Я нашел лучше». Так и случилось. Но, знаете, я вообще не представляю себе, что это за муж — знал пятьдесят два языка. Правильно говорил Гумилев, что это не муж, это катастрофа!.. Именно Шилейко, напомню, назвал Ахматову Акумой — «Ведьма, колдунья» с древнеяпонского, ...многие считали, что в Ахматовой есть «что-то». Ведь так?
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.
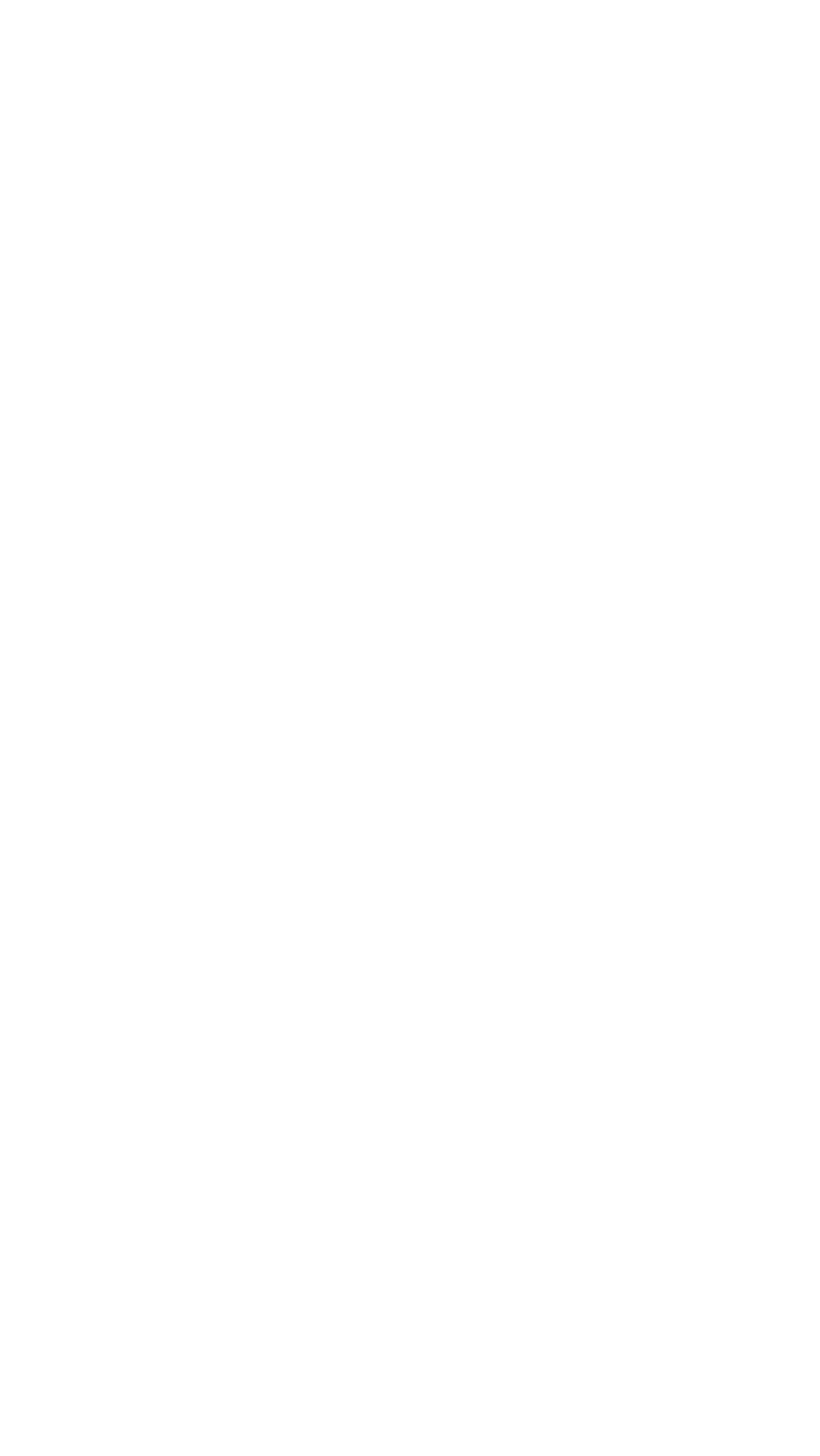
Фото Chris Radevich on Unsplash
Колдунья, конечно. В ней (как и в Цветаевой) была некая магия, конечно. Глубинная тайна, определенно. Ну просто больше видели, гораздо больше; будто уже не человеческим глазом. «Высота бреда — над уровнем Жизни», как писала Цветаева. Как такую величину сыграть? Я сразу отказалась, когда получила предложение режиссера Дмитрия Томашпольского. К тому же у меня нет внешнего сходства с Ахматовой.
Он успокоил, сказав, что предстоит играть актрису, которая играет Ахматову. В кадре — актриса, она говорит слова Анны Андреевны, живет в ее доме, но это не Ахматова сама. Это меня спасло. Но даже как бы отстраненно погружаться все равно было необходимо, сознательно и подсознательно, и я долго потом не могла отойти от, скажем, ее манеры двигаться...
Самое главное: обычно болтливая, я замолчала, начав работать над ролью. А она была молчалива. Она могла при вас сидеть, целый час чай пить с вареньем, молча, потом встать и уйти. Болтать-то нельзя было. Она даже черновиков не имела. Шевелила губами, когда у нее стихи рождались. Бумаге доверялся уже результат, а не сам поиск, как у Цветаевой. Марина Ивановна все-таки жила в свободном обществе, что бы там ни говорили. Жила трудно, тяжело, но там не было такого ужаса, который был у нас. Вот этого ледяного страха не было.
И вот я замолчала, меня раздражали звуки собственного же голоса. Стала медленно ходить, у меня всерьез начало болеть сердце. Зато в Комарово сотрудник ахматовского музея, когда я вышла из-за угла дома, вскрикнула: «Ааааахххх!...» — притом что мы совсем не делали ее знаменитый профиль...
Колдунья, конечно. В ней (как и в Цветаевой) была некая магия, конечно. Глубинная тайна, определенно. Ну просто больше видели, гораздо больше; будто уже не человеческим глазом. «Высота бреда — над уровнем Жизни», как писала Цветаева. Как такую величину сыграть? Я сразу отказалась, когда получила предложение режиссера Дмитрия Томашпольского. К тому же у меня нет внешнего сходства с Ахматовой.
Он успокоил, сказав, что предстоит играть актрису, которая играет Ахматову. В кадре — актриса, она говорит слова Анны Андреевны, живет в ее доме, но это не Ахматова сама. Это меня спасло. Но даже как бы отстраненно погружаться все равно было необходимо, сознательно и подсознательно, и я долго потом не могла отойти от, скажем, ее манеры двигаться...
Самое главное: обычно болтливая, я замолчала, начав работать над ролью. А она была молчалива. Она могла при вас сидеть, целый час чай пить с вареньем, молча, потом встать и уйти. Болтать-то нельзя было. Она даже черновиков не имела. Шевелила губами, когда у нее стихи рождались. Бумаге доверялся уже результат, а не сам поиск, как у Цветаевой. Марина Ивановна все-таки жила в свободном обществе, что бы там ни говорили. Жила трудно, тяжело, но там не было такого ужаса, который был у нас. Вот этого ледяного страха не было.
И вот я замолчала, меня раздражали звуки собственного же голоса. Стала медленно ходить, у меня всерьез начало болеть сердце. Зато в Комарово сотрудник ахматовского музея, когда я вышла из-за угла дома, вскрикнула: «Ааааахххх!...» — притом что мы совсем не делали ее знаменитый профиль...
Кстати, мне передали слова замечательного режиссера Кшиштофа Занусси, председателя жюри первого киевского международного фестиваля, который прошел в начале июня. Занусси сказал: «Я не понял, КАК играет эта актриса. У меня было полное ощущение, что по экрану действительно ходит живая, документально заснятая Ахматова». И нам со Светланой Свирко (она играет молодой возраст Ахматовой. — Прим. авт.) дали приз «За лучшую женскую роль».
Еще с одной тяжелой задачей надо было справиться: найти баланс между актерской и авторской манерой чтения. Авторское нельзя слушать долго, оно занудно: поэт просто отбивает ритм голосом, и слушатель пропускает смысл. Актер читает с аффектацией, усиленно акцентируя. Мне кажется, мы нашли золотую середину... Это было очень серьезное погружение. И счастье работы с режиссером. Уровень взаимопонимания случился такой, будто мы прожили вместе тридцать лет.
Мы трудились по шестнадцать часов в день, и — помощь Анны Андреевны я не исключаю ни в коем случае — мне кажется, было некое благословение. Например, однажды я учила огромный монолог о печально знаменитом ждановском постановлении 1946 года, где она рассказывает о дне, когда пришла в Литфонд за продовольственным пайком и не могла понять, что происходит с людьми, отчего они стали так враждебны, а потом, идя по улице, увидела свое имя в газете на стене дома.
Еще с одной тяжелой задачей надо было справиться: найти баланс между актерской и авторской манерой чтения. Авторское нельзя слушать долго, оно занудно: поэт просто отбивает ритм голосом, и слушатель пропускает смысл. Актер читает с аффектацией, усиленно акцентируя. Мне кажется, мы нашли золотую середину... Это было очень серьезное погружение. И счастье работы с режиссером. Уровень взаимопонимания случился такой, будто мы прожили вместе тридцать лет.
Мы трудились по шестнадцать часов в день, и — помощь Анны Андреевны я не исключаю ни в коем случае — мне кажется, было некое благословение. Например, однажды я учила огромный монолог о печально знаменитом ждановском постановлении 1946 года, где она рассказывает о дне, когда пришла в Литфонд за продовольственным пайком и не могла понять, что происходит с людьми, отчего они стали так враждебны, а потом, идя по улице, увидела свое имя в газете на стене дома.
Фото Denise Jans on Unsplash
Огромный монолог; я понимала, что в эту ночь выучить не успею — физически, от усталости. Утром приезжаем в Комаровскую «Будку», прошу режиссера подсказывать текст. «Мотор! Камера!» — и пусть не говорят, что это бабские сказки, женские фантазии, — я стала говорить так, будто мне кто-то диктовал сверху. И сказала слово в слово так, как написано у нее. Вот что это было?
Более того, монолог заканчивался ее вопросом (в фильм этот кусочек не вошел) — «Зачем великой моей стране, победившей Гитлера со всей его современной техникой, понадобилось проехать по грудной клетке одной больной старухи?». И вдруг радиола из реквизита — только внешняя ее часть, изображавшая в кадре источник звучания фултонской речи Черчилля, — вдруг эта пустая коробка заорала, завыла... оцепенели все. Чему там было выть? Но это правда.
А еще мне приснился сон. Будто пришел мой прежний муж, Юра Векслер, ко мне. Говорю: «Юра, ты же умер». А он: «Нет, Света, я живой. Какой у тебя муж хороший, и мне так нравится сын ваш... я голодный, ты можешь меня покормить?»... Я позвонила режиссеру, рассказываю, тревожно как-то, а он вдруг говорит, что это сон Ахматовой о Гумилеве.
Точь-в-точь. Гумилев пришел, она говорит «Коля, ты же умер». Он: «Нет, Горький хлопотал перед Лениным, я живу под Иркутском... я голодный, ты можешь меня покормить?»...
Огромный монолог; я понимала, что в эту ночь выучить не успею — физически, от усталости. Утром приезжаем в Комаровскую «Будку», прошу режиссера подсказывать текст. «Мотор! Камера!» — и пусть не говорят, что это бабские сказки, женские фантазии, — я стала говорить так, будто мне кто-то диктовал сверху. И сказала слово в слово так, как написано у нее. Вот что это было?
Более того, монолог заканчивался ее вопросом (в фильм этот кусочек не вошел) — «Зачем великой моей стране, победившей Гитлера со всей его современной техникой, понадобилось проехать по грудной клетке одной больной старухи?». И вдруг радиола из реквизита — только внешняя ее часть, изображавшая в кадре источник звучания фултонской речи Черчилля, — вдруг эта пустая коробка заорала, завыла... оцепенели все. Чему там было выть? Но это правда.
А еще мне приснился сон. Будто пришел мой прежний муж, Юра Векслер, ко мне. Говорю: «Юра, ты же умер». А он: «Нет, Света, я живой. Какой у тебя муж хороший, и мне так нравится сын ваш... я голодный, ты можешь меня покормить?»... Я позвонила режиссеру, рассказываю, тревожно как-то, а он вдруг говорит, что это сон Ахматовой о Гумилеве.
Точь-в-точь. Гумилев пришел, она говорит «Коля, ты же умер». Он: «Нет, Горький хлопотал перед Лениным, я живу под Иркутском... я голодный, ты можешь меня покормить?»...
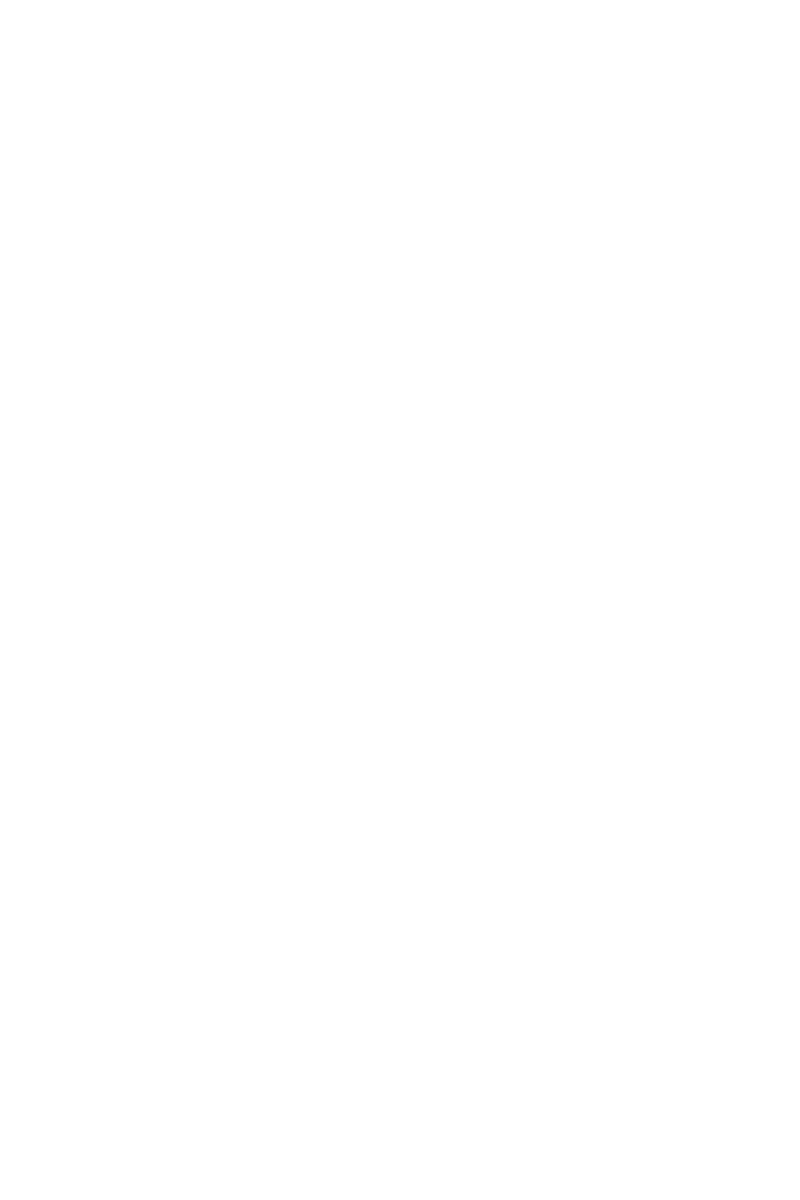
Вот что это такое?.. Во всяком случае я знаю, что ее не надо обижать. Гениев наших не надо обижать. Домыслами всякими, осуждением, глупым цитированием того, что было сказано в сердцах очевидно, выставлять в каком-то нехорошем свете... Зачем это делается иной раз, я никогда не пойму.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
При упоминании имени Карла Фаберже перед глазами у всех возникает видение вереницы необычайно красивых и немыслимо дорогих пасхальных яиц. Значительно меньше людей припомнят, что среди произведений мастеров Фаберже — десятки «человеческих фигурок», виртуозно вырезанных из разноцветных камней.
«Рассуждать о музыке — все равно что танцевать об архитектуре», — однажды сказал знаменитый гитарист Фрэнк Заппа. Утверждение спорное, но во многом справедливое. Так считает и один из самых известных музыкальных экспертов, автор нескольких книг по истории мирового и отечественного джаза Владимир Фейертаг.