Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Юрий АЛЯНСКИЙ
Маэстро бутафории.
Жизнь и творчество Сергея Евсеева
Жизнь и творчество Сергея Евсеева
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Omar KH on Unsplash
Дата публикации: 23 декабря 2024
Оканчивая московское Строгановское художественнопромышленное училище, Сергей Евсеев и во сне не мог увидеть, что через два десятилетия станет автором знаменитого на весь мир памятника. Наяву ему полагались пока что три привилегии: отсрочка от воинской повинности, освобождение от телесных наказаний и через три года — право ходатайствовать о присвоении ему звания «личного почетного гражданина».
Евсеев воспользовался двумя из этих возможностей. Телесных наказаний счастливо избежал. Исполнять воинские обязанности начал не в двадцать пять лет, как предписывалось в начале двадцатого века молодым художникам, а в шестьдесят, когда шла Великая Отечественная война. Получение же почетного гражданства в обусловленный срок не состоялось. О звании следовало просить. Для Евсеева это исключалось. Он был скромен и горд.
Наставником будущего декоратора и скульптора стал в училище Константин Алексеевич Коровин, выдающийся живописец и театральный художник. Учителя и ученика связывали сердечные отношения. Когда в 1904 году Евсеев окончил учение, Коровин вручил любимому ученику рекомендательное письмо в Петербург к директору императорских театров В. А. Те-ляковскому, с которым дружил и в чьем петербургском доме обычно останавливался в дни своих приездов в столицу. Коровин рекомендовал Евсеева как высоко одаренного театрального декоратора, уже проявившего себя в Москве в оформлении спектаклей Художественного театра. И советовал поручить ему работу в только что организованных в Петербурге театральных декорационных мастерских. В феврале 1908 года Евсеев возглавил эти мастерские и с того дня вел педантичный отсчет «сорока девяти годам и восьми месяцам», как определял он свой полувековой стаж.
Творческая жизнь молодого декоратора сразу же началась с воплощения замыслов самого Александра Николаевича Бенуа — при постановке в Мариинском театре балета «Павильон Армиды». «Я с головой ушел в театральную работу, — писал А. Бенуа. — Возникали недоразумения то в мастерских женских и мужских костюмеров, а то и с париками. К счастью, уточнений не требовалось в беседах с бутафором-скульптором Евсеевым, который сразу схватывал все, что было характерного в моих рисунках, и превосходно справился с задачей. На нем лежало изготовление изощренных шлемов, гротескных масок для сатиров, монументальных часов, всякой мебели, всяких пластических подробностей на панцирях... Чудесный он был мастер, и какой скромный, какой малотребовательный, подлинный художник в душе!..»
В совместном творчестве с Александром Николаевичем Бенуа Евсеев проходил высокую академию мастерства и вкуса. А «Павильон Армиды», рожденный не только композитором Николаем Черепниным, балетмейстером Михаилом Фокиным, художником Александром Бенуа, танцовщиками Анной Павловой, Павлом Гердтом, Вацлавом Нижинским, но и бутафором-скульптором Сергеем Евсеевым, имел в Петербурге ошеломительный успех. Дягилев повез его в Париж: начинались знаменитые «Русские сезоны».
Театр не ограничивал интересы Сергея Александровича Евсеева,хотя и составлял его главное занятие. В 1909 году скульптор решил принять участие в конкурсе на памятник генералу Скобелеву. В помещении Академии генерального штаба открылась выставка представленных моделей.
Наставником будущего декоратора и скульптора стал в училище Константин Алексеевич Коровин, выдающийся живописец и театральный художник. Учителя и ученика связывали сердечные отношения. Когда в 1904 году Евсеев окончил учение, Коровин вручил любимому ученику рекомендательное письмо в Петербург к директору императорских театров В. А. Те-ляковскому, с которым дружил и в чьем петербургском доме обычно останавливался в дни своих приездов в столицу. Коровин рекомендовал Евсеева как высоко одаренного театрального декоратора, уже проявившего себя в Москве в оформлении спектаклей Художественного театра. И советовал поручить ему работу в только что организованных в Петербурге театральных декорационных мастерских. В феврале 1908 года Евсеев возглавил эти мастерские и с того дня вел педантичный отсчет «сорока девяти годам и восьми месяцам», как определял он свой полувековой стаж.
Творческая жизнь молодого декоратора сразу же началась с воплощения замыслов самого Александра Николаевича Бенуа — при постановке в Мариинском театре балета «Павильон Армиды». «Я с головой ушел в театральную работу, — писал А. Бенуа. — Возникали недоразумения то в мастерских женских и мужских костюмеров, а то и с париками. К счастью, уточнений не требовалось в беседах с бутафором-скульптором Евсеевым, который сразу схватывал все, что было характерного в моих рисунках, и превосходно справился с задачей. На нем лежало изготовление изощренных шлемов, гротескных масок для сатиров, монументальных часов, всякой мебели, всяких пластических подробностей на панцирях... Чудесный он был мастер, и какой скромный, какой малотребовательный, подлинный художник в душе!..»
В совместном творчестве с Александром Николаевичем Бенуа Евсеев проходил высокую академию мастерства и вкуса. А «Павильон Армиды», рожденный не только композитором Николаем Черепниным, балетмейстером Михаилом Фокиным, художником Александром Бенуа, танцовщиками Анной Павловой, Павлом Гердтом, Вацлавом Нижинским, но и бутафором-скульптором Сергеем Евсеевым, имел в Петербурге ошеломительный успех. Дягилев повез его в Париж: начинались знаменитые «Русские сезоны».
Театр не ограничивал интересы Сергея Александровича Евсеева,хотя и составлял его главное занятие. В 1909 году скульптор решил принять участие в конкурсе на памятник генералу Скобелеву. В помещении Академии генерального штаба открылась выставка представленных моделей.
Фото Ann Di on Unsplash
Участие в конкурсе соблазняло Евсеева, особенно тем, что победителю полагалась собственная мастерская. Сергей Александрович не учел только, что среди двадцати семи состязавшихся скульпторов готовил свой проект и некий полковник Самонов и что ему покровительствовал царь. Полковник и получил первую премию. Евсееву присудили третью.
Высоко оценил талант и мастерство Евсеева Александр Яковлевич Головин, оформлявший на сцене Александринского театра легендарную постановку лермонтовского «Маскарада». Скульптор возрождал на сцене его декорации, гигантский портал, огромные лепные двери, покрытые позолотой, мастерил старинные диваны и кресла. Одних только канделябров и подсвечников пришлось делать сотни. «Маскарад» оснащался несколькими тысячами предметов, выполненных Евсеевым. Сын бывшего директора императорских театров В. В. Теляковский писал в своих воспоминаниях о Головине: «Переворот в оформлении спектаклей, совершенный Головиным, удалось осуществить только благодаря тому, что он сумел собрать вокруг себя замечательных помощников; это был заведующий бутафорскими мастерскими талантливый художник-скульптор С. А. Евсеев».
Участие в конкурсе соблазняло Евсеева, особенно тем, что победителю полагалась собственная мастерская. Сергей Александрович не учел только, что среди двадцати семи состязавшихся скульпторов готовил свой проект и некий полковник Самонов и что ему покровительствовал царь. Полковник и получил первую премию. Евсееву присудили третью.
Высоко оценил талант и мастерство Евсеева Александр Яковлевич Головин, оформлявший на сцене Александринского театра легендарную постановку лермонтовского «Маскарада». Скульптор возрождал на сцене его декорации, гигантский портал, огромные лепные двери, покрытые позолотой, мастерил старинные диваны и кресла. Одних только канделябров и подсвечников пришлось делать сотни. «Маскарад» оснащался несколькими тысячами предметов, выполненных Евсеевым. Сын бывшего директора императорских театров В. В. Теляковский писал в своих воспоминаниях о Головине: «Переворот в оформлении спектаклей, совершенный Головиным, удалось осуществить только благодаря тому, что он сумел собрать вокруг себя замечательных помощников; это был заведующий бутафорскими мастерскими талантливый художник-скульптор С. А. Евсеев».
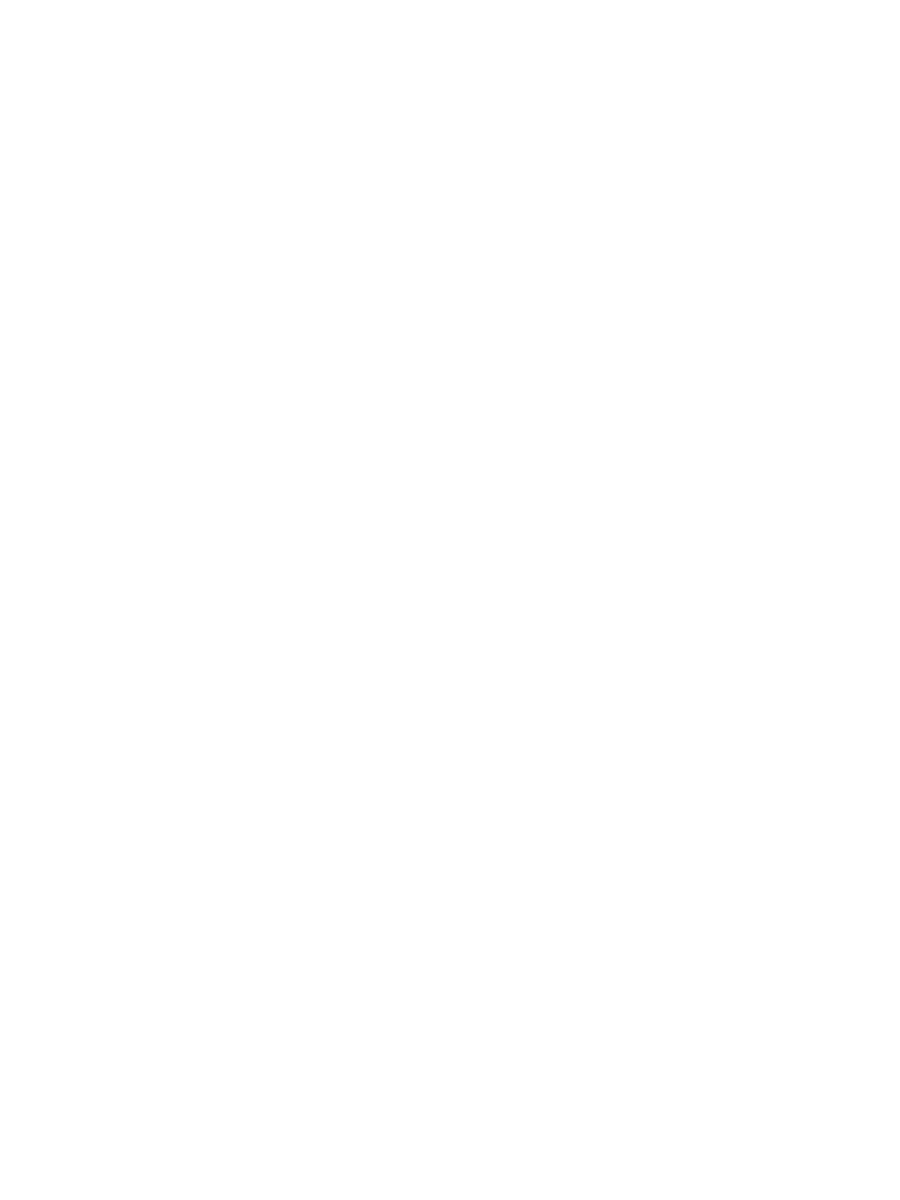
Однажды, весной 1919 года, партию Дон-Кихота на сцене Мариинского театра должен был петь Шаляпин. В те дни трудно было с бумагой, не хватало афиш. И Евсеев задумал сделать для любимого артиста собственную художественную афишу — хотя бы в одном экземпляре. По краям большого прямоугольного холста он разместил текст, а в центре композиции изобразил Шаляпина — Дон-Кихота на верном Росинанте. Фигуры всадника и коня выполненные мастерски, носили шуточный, гротескный характер.
В назначенный день Евсеев выставил свое произведение у входа в театр. На пролетке подъехал Шаляпин. Он прошел сквозь толпу заинтригованных зрителей, долго разглядывал картину, улыбался, а потом распорядился,чтобы ее убрали с улицы и отнесли к нему в артистическую уборную. «Оставлю себе на память», — сказал он.
В декорационные мастерские к Евсееву приходили молодые художники. Театральная художница Татьяна Острогорская вспоминала: «Меня встретил человек удивительно красивый, с умными добрыми глазами, пушистыми усами и изумительной осанкой. Он разговаривал со мной, неучем, который принес ему неумелые эскизы, как с мэтром, как будто ему принес свои работы Коровин или Головин. Он робко спрашивал меня: «Может быть, здесь чуть теплее?.. Чуть холоднее?..». И я не узнавала свои эскизы, так они заблестели».
...В апреле 1924 года был объявлен конкурс на проект памятника Ленину у Финляндского вокзала. Ведущие художники, архитекторы и скульпторы страны включились в соревнование. Видное место среди них занимал Владимир Алексеевич Щуко, академик архитектуры, участвовавший в конкурсе вместе с архитектором более молодого поколения Владимиром Георгиевичем Гельфрейхом. Желаемого результата долго не получалось. Ни один из вариантов не давал полного удовлетворения. А всего готовился к конкурсу 61 проект.
И вот однажды оба архитектора — Щуко и Гельфрейх — случайно, по какому-то делу, зашли в декорационные мастерские ленинградских театров. И неожиданно увидели модель статуи Ленина — ее сделал не для конкурса, а в результате собственных размышлений скульптор Евсеев. Эта случайная встреча определила судьбу будущего памятника.
— Давайте работать вместе, — предложил Щуко.
Евсеев охотно согласился. После длительных поисков, уточнений, споров модель Евсеева была взята за основу будущего памятника. Теперь предстояло ваять фигуру во всю величину.
Сергей Александрович рассказывал, как трудно было сочетать работу над огромной фигурой с одновременным выполнением производственных заказов театров. Скульптор попросил дать ему возможность лепить будущий памятник у себя в мастерских. Помещение пришлось специально переоборудовать, даже пробить потолок и снять одно из перекрытий — только тогда статуя могла встать во всю свою высоту: четыре метра двадцать шесть сантиметров. Работу предстояло выполнить всего за три месяца. Евсеев трудился один, с мальчиком-подручным. Когда была готова гипсовая отливка, ее доставили в единственную тогда в Ленинграде литейную мастерскую — на завод «Красный выборжец».
В назначенный день Евсеев выставил свое произведение у входа в театр. На пролетке подъехал Шаляпин. Он прошел сквозь толпу заинтригованных зрителей, долго разглядывал картину, улыбался, а потом распорядился,чтобы ее убрали с улицы и отнесли к нему в артистическую уборную. «Оставлю себе на память», — сказал он.
В декорационные мастерские к Евсееву приходили молодые художники. Театральная художница Татьяна Острогорская вспоминала: «Меня встретил человек удивительно красивый, с умными добрыми глазами, пушистыми усами и изумительной осанкой. Он разговаривал со мной, неучем, который принес ему неумелые эскизы, как с мэтром, как будто ему принес свои работы Коровин или Головин. Он робко спрашивал меня: «Может быть, здесь чуть теплее?.. Чуть холоднее?..». И я не узнавала свои эскизы, так они заблестели».
...В апреле 1924 года был объявлен конкурс на проект памятника Ленину у Финляндского вокзала. Ведущие художники, архитекторы и скульпторы страны включились в соревнование. Видное место среди них занимал Владимир Алексеевич Щуко, академик архитектуры, участвовавший в конкурсе вместе с архитектором более молодого поколения Владимиром Георгиевичем Гельфрейхом. Желаемого результата долго не получалось. Ни один из вариантов не давал полного удовлетворения. А всего готовился к конкурсу 61 проект.
И вот однажды оба архитектора — Щуко и Гельфрейх — случайно, по какому-то делу, зашли в декорационные мастерские ленинградских театров. И неожиданно увидели модель статуи Ленина — ее сделал не для конкурса, а в результате собственных размышлений скульптор Евсеев. Эта случайная встреча определила судьбу будущего памятника.
— Давайте работать вместе, — предложил Щуко.
Евсеев охотно согласился. После длительных поисков, уточнений, споров модель Евсеева была взята за основу будущего памятника. Теперь предстояло ваять фигуру во всю величину.
Сергей Александрович рассказывал, как трудно было сочетать работу над огромной фигурой с одновременным выполнением производственных заказов театров. Скульптор попросил дать ему возможность лепить будущий памятник у себя в мастерских. Помещение пришлось специально переоборудовать, даже пробить потолок и снять одно из перекрытий — только тогда статуя могла встать во всю свою высоту: четыре метра двадцать шесть сантиметров. Работу предстояло выполнить всего за три месяца. Евсеев трудился один, с мальчиком-подручным. Когда была готова гипсовая отливка, ее доставили в единственную тогда в Ленинграде литейную мастерскую — на завод «Красный выборжец».
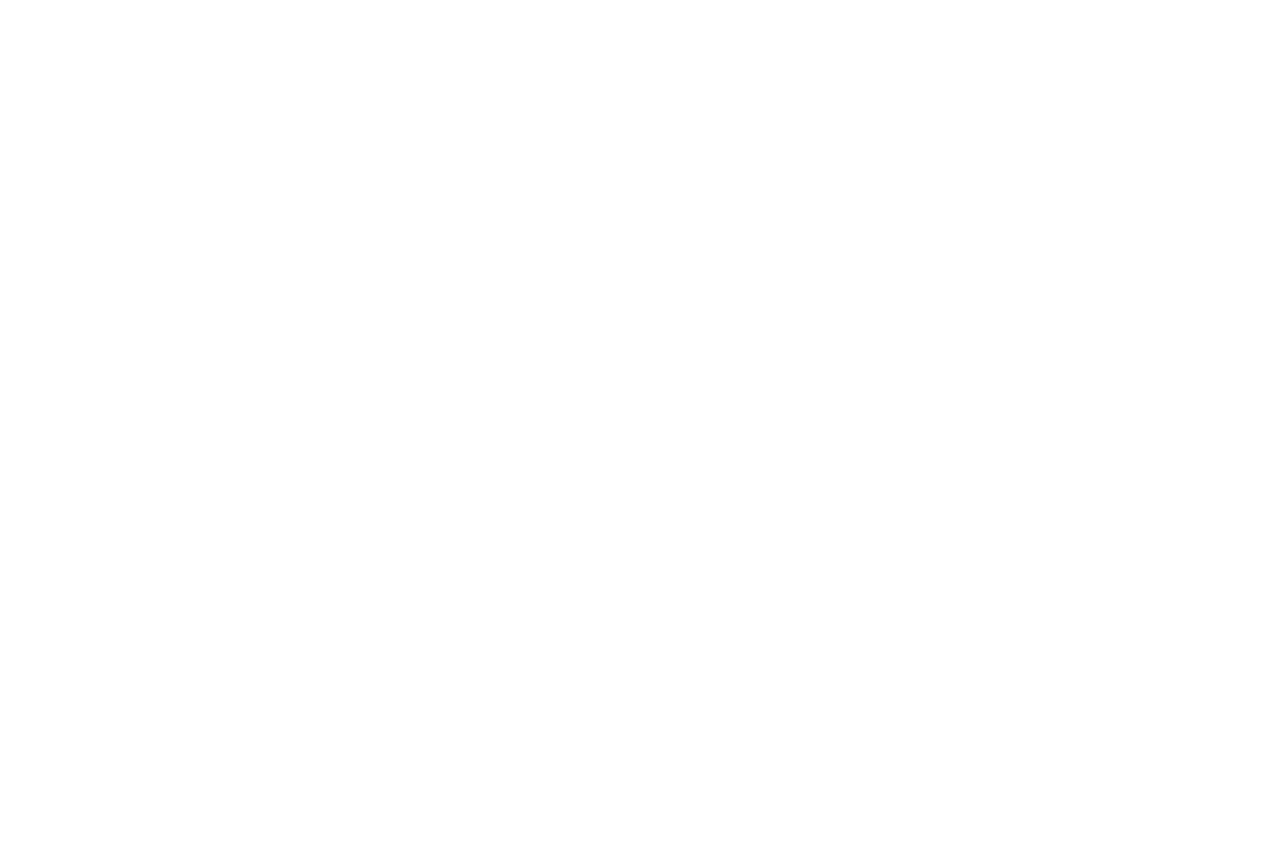
Фото Patrick Hendry
on Unsplash
on Unsplash
Памятники отливают в бронзе. Но бронзы — сплава меди с другими металлами — тогда не хватало. Для получения необходимого количества металла, шестисот пудов — около десяти тысяч килограммов, пришлось перелить горы медных гильз. Отливка статуи, произведенная под руководством инженера Э. Гаккера, крупнейшего специалиста в области художественного литья, завершилась успешно. Когда работы по установке памятника на площади окончились, на леса поднялся скульптор Евсеев; предстояла чеканка статуи, ответственная ювелирная работа. Он выполнил ее в совершенстве.
Открытие памятника назначили на 7 ноября 1926 года. Уже с утра площадь перед Финляндским вокзалом (в то время еще старым его зданием) оделась в праздничный наряд. Зеленые гирлянды украсили фасады домов. На деревянном помосте-трибуне собрались руководители торжества, художники, архитекторы, конечно — Щуко и Гельфрейх. Не было только Евсеева. «Где же он?» — спрашивали на трибуне. Никто не мог ответить на этот вопрос. И, наконец, решили начинать торжество. С башни на здании вокзала запели фанфары. Взорвал тишину орудийный салют. И спал брезент, укрывавший памятник. Ленин говорил с броневика.
А Сергей Александрович Евсеев стоял в стороне, в толпе. Позднее оказалось, что ему просто забыли оставить пропуск на трибуну, а сам он и на этот раз не стал просить для себя.
...И была Великая Отечественная война. В начале сентября сорок первого года в мастерские к Евсееву приехали военные. Один из них представился:
— Начальник инженерного управления фронта подполковник Бычевский.
И сразу перешел к делу.
— Сергей Александрович, задание вам от командования необычное: начать производство деревянных танков.
Евсеев молчал.
— Идея-то не новая, — продолжал подполковник, — в начале войны, когда англичане начали бомбить западные районы Германии, немцы решили их обмануть. Построили огромный завод, весь из дерева, с соответствующей покраской. Прилетело подразделение британских бомбардировщиков и стало усердно бомбить построенную для них декорацию. Только не слышно было грохота разрывов. Оказалось, английские летчики кидали на деревянный завод... деревянные бомбы. И сбросили следом листовки с насмешливым текстом.
— Какие же у вас основания думать, что на нашу уловку с деревянными танками враги клюнут?
— Немецко-фашистским генералам уроки истории не идут впрок.
Евсеев получил необходимые чертежи, и производство деревянных танков началось. Их сразу же отвозили к линии фронта, расставляли в «боевые» позиции и тщательно укрывали ветками. И летчики вермахта клюнули: принялись бомбить «танковую колонну», изготовленную из деревянных брусьев и фанеры.
Через несколько дней после этих событий командование Ленинградским фронтом принял на себя Г. К. Жуков. И на другой же день вызвал Бычевского. Позднее генерал-лейтенант Б. В. Бычевский вспоминал:
«Я развернул карты и начал докладывать. Жуков молча слушал. И неожиданно спросил:
— Что за танки оказались в районе Петро-Славянки?
— Это макеты танков, товарищ командующий. Пятьдесят штук деревянных макетов сделано в мастерской Кировского театра. Немцы дважды их бомбили...
— Дважды! — насмешливо перебил Жуков. — И долго ты там держишь эти игрушки?
— Два дня.
— Дураков среди немцев ищешь. В третий раз они туда тоже деревяшки вместо бомб сбросят.
Жуков приказал нынешней же ночью переставить макеты на новое место и изготовить еще сто штук.
Я доложил, что мастерские театра не успеют сделать столько за одну ночь. Командующий так посмотрел на меня, что стало ясно: сомнений, возражений Жуков не примет. Последовало короткое, но весьма выразительное предупреждение, что если приказ не будет выполнен — многие пойдут под суд».
В ту ночь Евсеев, сотрудники мастерских и приданные им в помощь саперы не сомкнули глаз.
Задание командующего было выполнено.
Открытие памятника назначили на 7 ноября 1926 года. Уже с утра площадь перед Финляндским вокзалом (в то время еще старым его зданием) оделась в праздничный наряд. Зеленые гирлянды украсили фасады домов. На деревянном помосте-трибуне собрались руководители торжества, художники, архитекторы, конечно — Щуко и Гельфрейх. Не было только Евсеева. «Где же он?» — спрашивали на трибуне. Никто не мог ответить на этот вопрос. И, наконец, решили начинать торжество. С башни на здании вокзала запели фанфары. Взорвал тишину орудийный салют. И спал брезент, укрывавший памятник. Ленин говорил с броневика.
А Сергей Александрович Евсеев стоял в стороне, в толпе. Позднее оказалось, что ему просто забыли оставить пропуск на трибуну, а сам он и на этот раз не стал просить для себя.
...И была Великая Отечественная война. В начале сентября сорок первого года в мастерские к Евсееву приехали военные. Один из них представился:
— Начальник инженерного управления фронта подполковник Бычевский.
И сразу перешел к делу.
— Сергей Александрович, задание вам от командования необычное: начать производство деревянных танков.
Евсеев молчал.
— Идея-то не новая, — продолжал подполковник, — в начале войны, когда англичане начали бомбить западные районы Германии, немцы решили их обмануть. Построили огромный завод, весь из дерева, с соответствующей покраской. Прилетело подразделение британских бомбардировщиков и стало усердно бомбить построенную для них декорацию. Только не слышно было грохота разрывов. Оказалось, английские летчики кидали на деревянный завод... деревянные бомбы. И сбросили следом листовки с насмешливым текстом.
— Какие же у вас основания думать, что на нашу уловку с деревянными танками враги клюнут?
— Немецко-фашистским генералам уроки истории не идут впрок.
Евсеев получил необходимые чертежи, и производство деревянных танков началось. Их сразу же отвозили к линии фронта, расставляли в «боевые» позиции и тщательно укрывали ветками. И летчики вермахта клюнули: принялись бомбить «танковую колонну», изготовленную из деревянных брусьев и фанеры.
Через несколько дней после этих событий командование Ленинградским фронтом принял на себя Г. К. Жуков. И на другой же день вызвал Бычевского. Позднее генерал-лейтенант Б. В. Бычевский вспоминал:
«Я развернул карты и начал докладывать. Жуков молча слушал. И неожиданно спросил:
— Что за танки оказались в районе Петро-Славянки?
— Это макеты танков, товарищ командующий. Пятьдесят штук деревянных макетов сделано в мастерской Кировского театра. Немцы дважды их бомбили...
— Дважды! — насмешливо перебил Жуков. — И долго ты там держишь эти игрушки?
— Два дня.
— Дураков среди немцев ищешь. В третий раз они туда тоже деревяшки вместо бомб сбросят.
Жуков приказал нынешней же ночью переставить макеты на новое место и изготовить еще сто штук.
Я доложил, что мастерские театра не успеют сделать столько за одну ночь. Командующий так посмотрел на меня, что стало ясно: сомнений, возражений Жуков не примет. Последовало короткое, но весьма выразительное предупреждение, что если приказ не будет выполнен — многие пойдут под суд».
В ту ночь Евсеев, сотрудники мастерских и приданные им в помощь саперы не сомкнули глаз.
Задание командующего было выполнено.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Илья Авербах (1934 — 1986) был врачом, затем закончил высшие сценарные, а после и режиссерские курсы. При жизни стал считаться классиком «Ленфильма», хотя успел сделать всего восемь с половиной картин.
Семья Шабуниных обосновалась в Лесном с 1906 года, перебравшись из центра Петербурга. Причиной переезда в пригород стали проблемы со здоровьем дочери Шабуниных Евгении: доктора посоветовали покинуть пыльный город и переехать в Лесной.