Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Дмитрий ШЕРИХ
«Их император читает».
История старейшей газеты России
«Санкт-Петербургские ведомости»
История старейшей газеты России
«Санкт-Петербургские ведомости»
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
ФОТО СПб ведомости
Дата публикации: 6 ноября 2024
У какой еще российской газеты есть такая история, как у «Санкт-Петербургских ведомостей»? Первый русский редактор — Ломоносов.
В числе авторов — Достоевский и Тургенев, Островский и Лев Толстой, Римский- Корсаков и Бородин, Салтыков-Щедрин и Лесков, Даль и Менделеев... Среди постоянных читателей — Пушкин и Чехов, Герцен и Суворов, императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, императоры Николай I и Николай II, Ленин и Троцкий. Даже такой очень неполный список похож на Пантеон выдающихся россиян.
Что ж, их участию в судьбе «Санкт-Петербургских ведомостей» были вполне объективные, весомые причины. В XVIII столетии «Санкт-Петербургские ведомости» были единственной газетой нашего города, а какое-то время и всей Российской империи. Немалую часть XIX столетия «Санкт-Петербургские ведомости» были популярнейшей, ведущей либеральной газетой страны. И имели самый большой тираж
среди российских газет, которых в ту пору было уже предостаточно...
А еще «Санкт-Петербургские ведомости» первыми рассказали российским читателям о таком явлении, как опера, первыми в мире сообщили об открытии Берингова пролива. Первый в России журнал издавался именно как приложение к «Санкт-Петербургским ведомостям». На страницах этой же газеты впервые стали печататься сведения о погоде. И так далее — до бесконечности. Перечень того, что «Санкт-Петербургские ведомости» сделали первыми, поистине необъятен. А вообще история газеты оказалась необычайно длинной.
С 1728 по 1917 годы, потом с 1991 года доныне — как ни считай, ни одному российскому печатному изданию не удалось прожить дольше... Сегодня на этой странице — небольшие исторические заметки, написанные по следам давних публикаций в «Санкт-Петербургских ведомостях».
В числе авторов — Достоевский и Тургенев, Островский и Лев Толстой, Римский- Корсаков и Бородин, Салтыков-Щедрин и Лесков, Даль и Менделеев... Среди постоянных читателей — Пушкин и Чехов, Герцен и Суворов, императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, императоры Николай I и Николай II, Ленин и Троцкий. Даже такой очень неполный список похож на Пантеон выдающихся россиян.
Что ж, их участию в судьбе «Санкт-Петербургских ведомостей» были вполне объективные, весомые причины. В XVIII столетии «Санкт-Петербургские ведомости» были единственной газетой нашего города, а какое-то время и всей Российской империи. Немалую часть XIX столетия «Санкт-Петербургские ведомости» были популярнейшей, ведущей либеральной газетой страны. И имели самый большой тираж
среди российских газет, которых в ту пору было уже предостаточно...
А еще «Санкт-Петербургские ведомости» первыми рассказали российским читателям о таком явлении, как опера, первыми в мире сообщили об открытии Берингова пролива. Первый в России журнал издавался именно как приложение к «Санкт-Петербургским ведомостям». На страницах этой же газеты впервые стали печататься сведения о погоде. И так далее — до бесконечности. Перечень того, что «Санкт-Петербургские ведомости» сделали первыми, поистине необъятен. А вообще история газеты оказалась необычайно длинной.
С 1728 по 1917 годы, потом с 1991 года доныне — как ни считай, ни одному российскому печатному изданию не удалось прожить дольше... Сегодня на этой странице — небольшие исторические заметки, написанные по следам давних публикаций в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Слоны пили водку ведрами
«При здешней Императорской Академии наук ныне намерены Анатомию Льва восприять. который третьего дня в вечеру на зверовом дворе умер, и надеются здесь об оном такожде разные новые объявления изыскать, как при разбирании в прошлой осени Слона учинилось...».
Это примечательное, даже забавное сообщение было опубликовано «Санкт-Петербургскими ведомостями» в 1728 году. Напоминает оно сегодня не только об академических штудиях — но и о том, что в Петербурге XVIII столетия жили-были слоны. Те самые слоны, которых сейчас нам в нашем городе так не хватает...
Первый слон был прислан Петру Великому тогдашним шахом Хуссейном. Гулять животное водили на Невский, и вокруг слона собирались толпы горожан: «известно, что слоны в диковинку у нас». Вели себя петербуржцы шумно: смеялись, бранились, даже кидали в слона камни. Следствием чего стал указ о «неучинении помешательства слоновщику в провожании слона».
Петровский слон вообще был окружен заботой властей; его годовой рацион составлял ни много ни мало: «пшена соропчинского — 250 пудов, масла коровья — 48 пудов, патоки — тож, калачей — по 60 на день, сена — 1600 пудов, соли — 8 пудов, свечь — 2500, вина простого — 315 ведер, ренского — 315 бутылок». Сено, пшено, калачи — это не удивляет, но вот простое вино (водка), да и рейнское...
Потом вскрылось, что простое вино употреблял по большей части не слон, а слоновщик Гаврила Бабаецов. Служителя допросили; тот упирался, но вину свою отчасти признал: «вина простого 4 ведра с пол ведром оное вино сам пил и солдатам давал за работу». Вряд ли, конечно, дело ограничилось четырьмя с половиной ведрами: слона, судя по всему, объедали постоянно. Так что он не выдержал и уже через три года помер. О чем есть запись в дневнике А. Д. Меншикова за май 1717 года: «Умре слон».
Петербуржцы недолго оставались без слона. Вскоре персы подарили Петру Великому еще одного слона — того самого, что скончался в 1728-м. А при Анне Иоанновне шах Надир сделал самодержице поистине царский подарок: целых 15 слонов! Для них был построен Слоновый двор у Фонтанки — большой, со специальным спуском к реке «ради купания». Этим слонам тоже был положен изрядный рацион, хотя и другой, чем первому слону: сухой тростник вместо сена, рис, сахар, мука... Не обошлось и без спиртных напитков, но в более скромных, чем прежде, количествах: в год на одного слона приходилось 40 ведер виноградного вина и 60 ведер водки.
Уже не было Гаврилы Бабаецова, но новый слоновщик Ассатий пошел по его стопам. Он подал даже жалобу начальству, что-де «к удовольствию слона водка неудобна, понеже явилась с пригарью и не крепка». Интересно, как сам Ассатий прознал о недостатках водки?
...Слоны жили у Фонтанки до времен Елизаветы Петровны, которая распорядилась перевести их подальше от строящегося Аничкова дворца — в район нынешней площади Восстания. Памятью о былом Слоновом дворе осталась и ныне Караванная улица — ведь погонщики слонов звали свои постройки караван-сараем, да и караван слонов, случалось, проходил по этой улице во время своей прогулки.
«При здешней Императорской Академии наук ныне намерены Анатомию Льва восприять. который третьего дня в вечеру на зверовом дворе умер, и надеются здесь об оном такожде разные новые объявления изыскать, как при разбирании в прошлой осени Слона учинилось...».
Это примечательное, даже забавное сообщение было опубликовано «Санкт-Петербургскими ведомостями» в 1728 году. Напоминает оно сегодня не только об академических штудиях — но и о том, что в Петербурге XVIII столетия жили-были слоны. Те самые слоны, которых сейчас нам в нашем городе так не хватает...
Первый слон был прислан Петру Великому тогдашним шахом Хуссейном. Гулять животное водили на Невский, и вокруг слона собирались толпы горожан: «известно, что слоны в диковинку у нас». Вели себя петербуржцы шумно: смеялись, бранились, даже кидали в слона камни. Следствием чего стал указ о «неучинении помешательства слоновщику в провожании слона».
Петровский слон вообще был окружен заботой властей; его годовой рацион составлял ни много ни мало: «пшена соропчинского — 250 пудов, масла коровья — 48 пудов, патоки — тож, калачей — по 60 на день, сена — 1600 пудов, соли — 8 пудов, свечь — 2500, вина простого — 315 ведер, ренского — 315 бутылок». Сено, пшено, калачи — это не удивляет, но вот простое вино (водка), да и рейнское...
Потом вскрылось, что простое вино употреблял по большей части не слон, а слоновщик Гаврила Бабаецов. Служителя допросили; тот упирался, но вину свою отчасти признал: «вина простого 4 ведра с пол ведром оное вино сам пил и солдатам давал за работу». Вряд ли, конечно, дело ограничилось четырьмя с половиной ведрами: слона, судя по всему, объедали постоянно. Так что он не выдержал и уже через три года помер. О чем есть запись в дневнике А. Д. Меншикова за май 1717 года: «Умре слон».
Петербуржцы недолго оставались без слона. Вскоре персы подарили Петру Великому еще одного слона — того самого, что скончался в 1728-м. А при Анне Иоанновне шах Надир сделал самодержице поистине царский подарок: целых 15 слонов! Для них был построен Слоновый двор у Фонтанки — большой, со специальным спуском к реке «ради купания». Этим слонам тоже был положен изрядный рацион, хотя и другой, чем первому слону: сухой тростник вместо сена, рис, сахар, мука... Не обошлось и без спиртных напитков, но в более скромных, чем прежде, количествах: в год на одного слона приходилось 40 ведер виноградного вина и 60 ведер водки.
Уже не было Гаврилы Бабаецова, но новый слоновщик Ассатий пошел по его стопам. Он подал даже жалобу начальству, что-де «к удовольствию слона водка неудобна, понеже явилась с пригарью и не крепка». Интересно, как сам Ассатий прознал о недостатках водки?
...Слоны жили у Фонтанки до времен Елизаветы Петровны, которая распорядилась перевести их подальше от строящегося Аничкова дворца — в район нынешней площади Восстания. Памятью о былом Слоновом дворе осталась и ныне Караванная улица — ведь погонщики слонов звали свои постройки караван-сараем, да и караван слонов, случалось, проходил по этой улице во время своей прогулки.
Дерзновению подобно
«Желающим для постановления блаженныя и вечной славы достойныя памяти Государя Императора Петра Великого монумента в гору выломать и привезти сюда, в Санктпетербург, 6 полевых диких камней разной величины, явиться в Канцелярию строений Ея Императорского Величества домов и садов немедленно, где обстоятельнее о величинах оных камней осведомиться могут...»
Такое витиеватое объявление было напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях» летом 1768 года. Несколько скупых строк — а за ними целая история.
Французский скульптор Этьен Морис Фальконе мечтал поставить конную статую Петра I на вершине гранитной скалы. О том, чтобы скала эта была монолитной, он не особо и мечтал — где найдешь такой монолит? Поэтому скульптор прикидывал реальные варианты и в конце концов решил составить пьедестал из шести каменных блоков. Набросал даже чертежи, какими должны быть эти блоки.
Только и такие монолиты было сыскать нелегко. В 1767 году на поиски этих «великих камней» отправились специальные экспедиции. Две группы разведчиков ходили летом по Петербургской губернии — безуспешно.
Следом отправились еще две группы. Одной удалось найти огромный камень у острова Котлин — успех! Однако тут же в бочке меда появилась пара ложек дегтя: для этого камня требовались подходящие по цвету и фактуре вставки, да и с доставкой камня были сложности.
После всего этого и появилось объявление в газете. Оно было написано с прицелом на частных поставщиков камня: те самостоятельно разведывали запасы камня и могли наткнуться на необходимые монолиты. Появилось объявление в июле, а в начале сентября в помянутую Канцелярию от строений явился крестьянин (и поставщик камня) Семен Вишняков. Он-то и сообщил: в лахтинских лесах лежит гигантский камень, известный местным жителям как Камень-Гром. Вишнякову досталось 100 рублей (солидные деньги по тем временам!), и машина закрутилась.
Один из современников описывал свои впечатления от лахтинского камня: «Взирание на оный возбуждало удивление, а мысль перевезти его на другое место приводила в ужас». Монолит тринадцати с лишним метров в длину, почти семи метров в высоту и более чем восьми метров в ширину перевезти и вправду было нелегко. И все же перевезли. Огромными усилиями, с невероятными затратами. Операция эта была столь сложной и запоминающейся, что в честь ее выбили медаль с гордой надписью: «Дерзновению подобно».
Ну а счастливый Фальконе заново спроектировал пьедестал для памятника — на сей раз из целого монолита. Правда, обойтись одним куском камня все-таки не удалось: не хватило длины Камня-Грома. Так что постамент в итоге составлен из трех частей. Но все три — это части лахтинского Камня-Грома.
...А в Лахте на месте Камня-Грома сейчас находится небольшое, но достаточно глубокое озеро. Его называют Петровским.
«Желающим для постановления блаженныя и вечной славы достойныя памяти Государя Императора Петра Великого монумента в гору выломать и привезти сюда, в Санктпетербург, 6 полевых диких камней разной величины, явиться в Канцелярию строений Ея Императорского Величества домов и садов немедленно, где обстоятельнее о величинах оных камней осведомиться могут...»
Такое витиеватое объявление было напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях» летом 1768 года. Несколько скупых строк — а за ними целая история.
Французский скульптор Этьен Морис Фальконе мечтал поставить конную статую Петра I на вершине гранитной скалы. О том, чтобы скала эта была монолитной, он не особо и мечтал — где найдешь такой монолит? Поэтому скульптор прикидывал реальные варианты и в конце концов решил составить пьедестал из шести каменных блоков. Набросал даже чертежи, какими должны быть эти блоки.
Только и такие монолиты было сыскать нелегко. В 1767 году на поиски этих «великих камней» отправились специальные экспедиции. Две группы разведчиков ходили летом по Петербургской губернии — безуспешно.
Следом отправились еще две группы. Одной удалось найти огромный камень у острова Котлин — успех! Однако тут же в бочке меда появилась пара ложек дегтя: для этого камня требовались подходящие по цвету и фактуре вставки, да и с доставкой камня были сложности.
После всего этого и появилось объявление в газете. Оно было написано с прицелом на частных поставщиков камня: те самостоятельно разведывали запасы камня и могли наткнуться на необходимые монолиты. Появилось объявление в июле, а в начале сентября в помянутую Канцелярию от строений явился крестьянин (и поставщик камня) Семен Вишняков. Он-то и сообщил: в лахтинских лесах лежит гигантский камень, известный местным жителям как Камень-Гром. Вишнякову досталось 100 рублей (солидные деньги по тем временам!), и машина закрутилась.
Один из современников описывал свои впечатления от лахтинского камня: «Взирание на оный возбуждало удивление, а мысль перевезти его на другое место приводила в ужас». Монолит тринадцати с лишним метров в длину, почти семи метров в высоту и более чем восьми метров в ширину перевезти и вправду было нелегко. И все же перевезли. Огромными усилиями, с невероятными затратами. Операция эта была столь сложной и запоминающейся, что в честь ее выбили медаль с гордой надписью: «Дерзновению подобно».
Ну а счастливый Фальконе заново спроектировал пьедестал для памятника — на сей раз из целого монолита. Правда, обойтись одним куском камня все-таки не удалось: не хватило длины Камня-Грома. Так что постамент в итоге составлен из трех частей. Но все три — это части лахтинского Камня-Грома.
...А в Лахте на месте Камня-Грома сейчас находится небольшое, но достаточно глубокое озеро. Его называют Петровским.
ФОТО из архива "СПб ведомостей"
Механик Кулибин
19 февраля 1779 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили: «Санкт-Петербургской Академии наук механик Иван Петрович Кулибин изобрел искусство делать составное из многих частей зеркало, которое, когда перед ним поставится одна только свеча, производит удивительное действие, умножая свет в пятьсот раз противу обыкновенного свечного света и более, смотря по мере зеркальных частиц, в оном смещенных. Оно может поставляться и на чистом воздухе в фонаре: тогда может давать от себя свет даже на несколько верст...».
Это удивительное зеркало — не что иное, как прототип прожектора. Изобретение не только родилось в голове механика, но и было испытано на Неве: с одного ее берега были освещены здания другого берега...
Не впервые писала газета о замечательном механике. Еще десятью годами раньше, в 1769-м, она впервые упомянула его имя и сообщила об изготовленных им уникальных часах в форме яйца с механизмом, состоящим из 427 деталей.
В том же, 1769-м, году Кулибин начал работу над уникальным проектом моста через Неву. Работа длилась долго; в 1776 году состоялись наконец испытания построенной им модели моста. Переправа должна была стать уникальной: деревянный одноарочный мост через всю Неву — этакая деревянная дуга, кулибинская радуга над Невой.
«Санкт-Петербургские ведомости» тогда писали:
«Сей отменный художник, коего природа произвела с сильным воображением, соединенным с справедливостью ума и весьма последовательным рассуждением, был изобретатель и исполнитель модели деревянного моста, каков может быть построен на 140 саженях, т. е. на широте Невы-реки, в том месте, где обыкновенно через оную мост наводится. Сия модель сделана на 14 саженях, следственно, содержащая в себе десятую часть предъизображаемого моста, была свидетельствуема Санкт-Петербургской Академией наук 27 декабря 1776 года и к неожиданному удовольствию Академии найдена совершенно и доказательно верною для произведения оной в настоящем размере».
Модель выдержала расчетный вес (3300 пудов), 570 пудов добавочной нагрузки, а также самого Кулибина и членов комиссии по испытанию модели. Мост через Неву, однако, не был «произведен в настоящем размере» — слишком уж дерзким по тому времени был проект!
30-метровая, в десятую долю величины моста, модель стояла во дворе академии, а затем в Таврическом саду. Там она рухнула летом 1816 года.
А еще на счету Кулибина — первая в мире коробка передач, устроенная им в 1782 году на самокатной коляске. Аналогичное изобретение только через 57 лет запатентовал английский инженер Хилс...
19 февраля 1779 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили: «Санкт-Петербургской Академии наук механик Иван Петрович Кулибин изобрел искусство делать составное из многих частей зеркало, которое, когда перед ним поставится одна только свеча, производит удивительное действие, умножая свет в пятьсот раз противу обыкновенного свечного света и более, смотря по мере зеркальных частиц, в оном смещенных. Оно может поставляться и на чистом воздухе в фонаре: тогда может давать от себя свет даже на несколько верст...».
Это удивительное зеркало — не что иное, как прототип прожектора. Изобретение не только родилось в голове механика, но и было испытано на Неве: с одного ее берега были освещены здания другого берега...
Не впервые писала газета о замечательном механике. Еще десятью годами раньше, в 1769-м, она впервые упомянула его имя и сообщила об изготовленных им уникальных часах в форме яйца с механизмом, состоящим из 427 деталей.
В том же, 1769-м, году Кулибин начал работу над уникальным проектом моста через Неву. Работа длилась долго; в 1776 году состоялись наконец испытания построенной им модели моста. Переправа должна была стать уникальной: деревянный одноарочный мост через всю Неву — этакая деревянная дуга, кулибинская радуга над Невой.
«Санкт-Петербургские ведомости» тогда писали:
«Сей отменный художник, коего природа произвела с сильным воображением, соединенным с справедливостью ума и весьма последовательным рассуждением, был изобретатель и исполнитель модели деревянного моста, каков может быть построен на 140 саженях, т. е. на широте Невы-реки, в том месте, где обыкновенно через оную мост наводится. Сия модель сделана на 14 саженях, следственно, содержащая в себе десятую часть предъизображаемого моста, была свидетельствуема Санкт-Петербургской Академией наук 27 декабря 1776 года и к неожиданному удовольствию Академии найдена совершенно и доказательно верною для произведения оной в настоящем размере».
Модель выдержала расчетный вес (3300 пудов), 570 пудов добавочной нагрузки, а также самого Кулибина и членов комиссии по испытанию модели. Мост через Неву, однако, не был «произведен в настоящем размере» — слишком уж дерзким по тому времени был проект!
30-метровая, в десятую долю величины моста, модель стояла во дворе академии, а затем в Таврическом саду. Там она рухнула летом 1816 года.
А еще на счету Кулибина — первая в мире коробка передач, устроенная им в 1782 году на самокатной коляске. Аналогичное изобретение только через 57 лет запатентовал английский инженер Хилс...
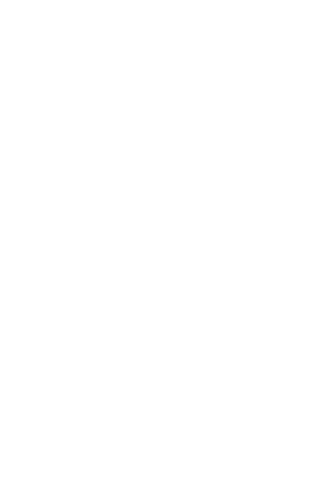
Встреча с Козьмой Прутковым
Наверное, всем сегодня известно, что талантливый русский писатель Козьма Прутков — плод фантазии не менее талантливых, но куда менее известных братьев Жемчужниковых и примкнувшего к ним А. К. Толстого. Но это сегодня — а вот в XIX столетии, когда карьера Пруткова только начиналась, читатели вполне могли считать его за реальную личность. И не в последнюю очередь благодаря «Санкт-Петербургским ведомостям»: газета не раз писала о Пруткове, иной раз рассказывая даже о встречах и беседах с ним...
Первое знакомство Пруткова с газетой случилось в 1854 году. Чтобы убедиться в этом, можно взять в руки любое издание сочинений Козьмы Петровича. Все эти издания открываются «Письмом известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту «С.-Петербургских ведомостей» (1854 г.) по поводу статьи сего последнего». Примечательное это письмо, настоящая программа Пруткова!
«Фельетонист, я пробежал твою статейку в № 80 «С.-Петербургских ведомостей». Ты в ней упоминаешь обо мне; это ничего. Но ты в ней неосновательно хулишь меня! За это не похвалю, хотя ты, очевидно, домогаешься моей похвалы.
Ты утверждаешь, что я пишу пародии? Отнюдь!.. Я совсем не пишу пародий!..
Между моими произведениями... не только нет пародий, но даже не все подражание; а есть настоящие, неподдельные и крупные самородки!.. Вот ты так пародируешь меня, и очень неудачно! Напр., ты говоришь: «Пародия должна быть направлена против чего-нибудь, имеющего более или менее (!) серьезный смысл; иначе она будет пустою забавою». Да это прямо из моего афоризма: «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою!..».
Козьма Прутков
ФОТО из брошюры "СПб ведомостей" - "Великие деятели культуры и искусств"
Наверное, всем сегодня известно, что талантливый русский писатель Козьма Прутков — плод фантазии не менее талантливых, но куда менее известных братьев Жемчужниковых и примкнувшего к ним А. К. Толстого. Но это сегодня — а вот в XIX столетии, когда карьера Пруткова только начиналась, читатели вполне могли считать его за реальную личность. И не в последнюю очередь благодаря «Санкт-Петербургским ведомостям»: газета не раз писала о Пруткове, иной раз рассказывая даже о встречах и беседах с ним...
Первое знакомство Пруткова с газетой случилось в 1854 году. Чтобы убедиться в этом, можно взять в руки любое издание сочинений Козьмы Петровича. Все эти издания открываются «Письмом известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту «С.-Петербургских ведомостей» (1854 г.) по поводу статьи сего последнего». Примечательное это письмо, настоящая программа Пруткова!
«Фельетонист, я пробежал твою статейку в № 80 «С.-Петербургских ведомостей». Ты в ней упоминаешь обо мне; это ничего. Но ты в ней неосновательно хулишь меня! За это не похвалю, хотя ты, очевидно, домогаешься моей похвалы.
Ты утверждаешь, что я пишу пародии? Отнюдь!.. Я совсем не пишу пародий!..
Между моими произведениями... не только нет пародий, но даже не все подражание; а есть настоящие, неподдельные и крупные самородки!.. Вот ты так пародируешь меня, и очень неудачно! Напр., ты говоришь: «Пародия должна быть направлена против чего-нибудь, имеющего более или менее (!) серьезный смысл; иначе она будет пустою забавою». Да это прямо из моего афоризма: «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою!..».
Козьма Прутков
ФОТО из брошюры "СПб ведомостей" - "Великие деятели культуры и искусств"
В написанном небрежно всегда будет много недосказанного, неконченного.
Твой доброжелатель Козьма Прутков».
Вот такой публичной полемикой было отмечено знакомство «Санкт-Петербургских ведомостей» и Пруткова. От этого уже недалеко и до личной встречи. Два года спустя из популярной тогда в газете рубрики «Заметки Петербургского Туриста» читатели узнали, что такая встреча состоялась и собеседником Пруткова стал этот самый Турист. Для пущей красоты Турист (известный критик А. В. Дружинин) даже набросал облик Пруткова. Примерно такой, каким Козьма Петрович запечатлен на общеизвестном портрете.После этой памятной встречи даже скептики могли уверовать: Козьма Петрович — вполне реальная персона из крови и плоти...
В 1863 году авторы Козьмы Пруткова решили поставить в его биографии точку. Было сообщено, что писатель скончался. Но дело Пруткова все-таки не умерло. Только дело отца продолжил сын Козьмы Петровича (разумеется, столь же воображаемый). Под его именем было сочинено множество афоризмов — и теперь они тоже входят в прутковские собрания сочинений.
Некоторые из этих афоризмов имеют самое прямое отношение к «Санкт-Петербургским ведомостям». Особенно к одному эпизоду их истории. В конце 1860-х популярный писатель Всеволод Крестовский, автор известных и сегодня «Петербургских тайн», написал роман «Панургово стадо», обращенный против нигилистов. Литературный критик «Санкт-Петербургских ведомостей» Виктор Буренин роман отрецензировал. Но сделал это настолько хлестко, что Крестовский направил Буренину, а заодно и редактору газеты Валентину Коршу вызов на дуэль. Журналисты от поединка уклонились.
Твой доброжелатель Козьма Прутков».
Вот такой публичной полемикой было отмечено знакомство «Санкт-Петербургских ведомостей» и Пруткова. От этого уже недалеко и до личной встречи. Два года спустя из популярной тогда в газете рубрики «Заметки Петербургского Туриста» читатели узнали, что такая встреча состоялась и собеседником Пруткова стал этот самый Турист. Для пущей красоты Турист (известный критик А. В. Дружинин) даже набросал облик Пруткова. Примерно такой, каким Козьма Петрович запечатлен на общеизвестном портрете.После этой памятной встречи даже скептики могли уверовать: Козьма Петрович — вполне реальная персона из крови и плоти...
В 1863 году авторы Козьмы Пруткова решили поставить в его биографии точку. Было сообщено, что писатель скончался. Но дело Пруткова все-таки не умерло. Только дело отца продолжил сын Козьмы Петровича (разумеется, столь же воображаемый). Под его именем было сочинено множество афоризмов — и теперь они тоже входят в прутковские собрания сочинений.
Некоторые из этих афоризмов имеют самое прямое отношение к «Санкт-Петербургским ведомостям». Особенно к одному эпизоду их истории. В конце 1860-х популярный писатель Всеволод Крестовский, автор известных и сегодня «Петербургских тайн», написал роман «Панургово стадо», обращенный против нигилистов. Литературный критик «Санкт-Петербургских ведомостей» Виктор Буренин роман отрецензировал. Но сделал это настолько хлестко, что Крестовский направил Буренину, а заодно и редактору газеты Валентину Коршу вызов на дуэль. Журналисты от поединка уклонились.
Громкий скандал комментировали многие; не остался в стороны и Прутков-младший. Он как раз работал над циклом «Военные афоризмы». Знаменитый цикл, давно уже ставший классикой:
Тому удивляется вся Европа,
Какая у полковника обширная шляпа.
Газете и ее сотрудникам посвящены в этом цикле сразу несколько двустиший.
Не дерись на дуэли, если жизнь дорога,
Откажись, как Буренин, и ругай врага.
Или еще:
Будь в отступлении проворен,
Как перед Крестовским Корш и Суворин.
Какая у полковника обширная шляпа.
Газете и ее сотрудникам посвящены в этом цикле сразу несколько двустиший.
Не дерись на дуэли, если жизнь дорога,
Откажись, как Буренин, и ругай врага.
Или еще:
Будь в отступлении проворен,
Как перед Крестовским Корш и Суворин.
Алексей Сергеевич Суворин здесь присутствует больше для рифмы, но, впрочем, и как ответственный сотрудник тогдашних «Санкт-Петербургских ведомостей»...
...В 1856 году «Санкт-Петербургские ведомости» уверяли читателей в реальном существовании Козьмы Пруткова. А в 1874-м именно они впервые раскрыли российскому читателю всю правду — и напечатали состав создателей Пруткова. Это была не просто газетная заметка, а специальная корреспонденция Алексея Жемчужникова, одного из авторов «прутковианы».
А еще два года спустя другой Жемчужников, Александр, опубликовал в газете пространные «неизданные сочинения» Козьмы Петровича и биографические о нем материалы. Так закончилась прутковская глава в истории «Санкт-Петербургских ведомостей».
...В 1856 году «Санкт-Петербургские ведомости» уверяли читателей в реальном существовании Козьмы Пруткова. А в 1874-м именно они впервые раскрыли российскому читателю всю правду — и напечатали состав создателей Пруткова. Это была не просто газетная заметка, а специальная корреспонденция Алексея Жемчужникова, одного из авторов «прутковианы».
А еще два года спустя другой Жемчужников, Александр, опубликовал в газете пространные «неизданные сочинения» Козьмы Петровича и биографические о нем материалы. Так закончилась прутковская глава в истории «Санкт-Петербургских ведомостей».
Цепь, хвосты, цветы...
«Вчера на Волковом кладбище местный сторож задержал чиновника, коллежского секретаря, похитившего железную цепь с палисадника одного из памятников. При задержании виновного найдено при нем и вещественное доказательство преступления... Виновный передан в распоряжение судебной власти».
Эта заметка, опубликованная «Санкт-Петербургскими ведомостями» 11 сентября 1874 года, напоминает: и в жизни императорского Петербурга было место экзотическим кражам.
Зачем чиновнику нужна была цепь с палисадника? Трудно сказать. Наверное, он решил украсить ею свою квартиру. Или просто был в подпитии, плохо управлял своими поступками...
А вот объявление из «Санкт-Петербургских ведомостей» 1770 года — времен ветхозаветных, когда в городе еще был порядок не чета нынешнему:
«Сего Апреля с 12 на 13 число в ночи в Александроневском монастыре украдена доска, которая положена была на гробе жены покойного Обер-гофмаршала Шепелева, медная червонным золотом вызолоченная, с надписью; ежели кто об оной проведает и в помянутый монастырь даст знать, тому дано будет пристойное награждение».
Александро-Невский монастырь! Петербургская святыня! И вот под ж ты...
И снова «Санкт-Петербургские ведомости», на сей раз 1790 года: «В прошедшую пятницу, то есть 28 декабря, во 2-м часу после полудни в доме г. Доктора Рожерсона на Галерном дворе под № 219 разломаны двери и из покоев украдены одна медвежья шуба крытая голубою шелковою материею, другая соболья шуба крытая Аглинским темнозеленым камлотом и... суконной сертук. Если кто объявит сих воров, тот получит... 100 р. в награждение».
Дерзки были преступники, если посягнули на имущество лейб-медика императрицы Екатерины Великой!
А кражам железнодорожных рельсов было положено начало в 1838 году на Царскосельской железной дороге. Дорога и открыта была лишь годом раньше, и вот уже быстро дошли до нее руки предприимчивых людей. Скупки металлов тогда еще не было, но мужики, очевидно, решили: в хозяйстве все сгодится!
А колесница Славы на арке Главного штаба тоже пострадала от рук человека: там были украдены ни много ни мало — хвосты лошадей!
Бесконечна была хроника краж в старом Петербурге. Среди банальных преступлений случались и нерядовые — те, которым находилось место на газетных страницах.
Напоследок процитируем «Ленинградскую правду» за август 1924 года: «Чуть ли не каждый день в городских садах происходят кражи цветов. Вчера воры с поличным были пойманы на поле Жертв Революции и в Исаакиевском сквере».
Вот уже в полном смысле слова банально. И — увы! — знакомо по нынешним временам.
Вечная тема, что ни говори...
«Вчера на Волковом кладбище местный сторож задержал чиновника, коллежского секретаря, похитившего железную цепь с палисадника одного из памятников. При задержании виновного найдено при нем и вещественное доказательство преступления... Виновный передан в распоряжение судебной власти».
Эта заметка, опубликованная «Санкт-Петербургскими ведомостями» 11 сентября 1874 года, напоминает: и в жизни императорского Петербурга было место экзотическим кражам.
Зачем чиновнику нужна была цепь с палисадника? Трудно сказать. Наверное, он решил украсить ею свою квартиру. Или просто был в подпитии, плохо управлял своими поступками...
А вот объявление из «Санкт-Петербургских ведомостей» 1770 года — времен ветхозаветных, когда в городе еще был порядок не чета нынешнему:
«Сего Апреля с 12 на 13 число в ночи в Александроневском монастыре украдена доска, которая положена была на гробе жены покойного Обер-гофмаршала Шепелева, медная червонным золотом вызолоченная, с надписью; ежели кто об оной проведает и в помянутый монастырь даст знать, тому дано будет пристойное награждение».
Александро-Невский монастырь! Петербургская святыня! И вот под ж ты...
И снова «Санкт-Петербургские ведомости», на сей раз 1790 года: «В прошедшую пятницу, то есть 28 декабря, во 2-м часу после полудни в доме г. Доктора Рожерсона на Галерном дворе под № 219 разломаны двери и из покоев украдены одна медвежья шуба крытая голубою шелковою материею, другая соболья шуба крытая Аглинским темнозеленым камлотом и... суконной сертук. Если кто объявит сих воров, тот получит... 100 р. в награждение».
Дерзки были преступники, если посягнули на имущество лейб-медика императрицы Екатерины Великой!
А кражам железнодорожных рельсов было положено начало в 1838 году на Царскосельской железной дороге. Дорога и открыта была лишь годом раньше, и вот уже быстро дошли до нее руки предприимчивых людей. Скупки металлов тогда еще не было, но мужики, очевидно, решили: в хозяйстве все сгодится!
А колесница Славы на арке Главного штаба тоже пострадала от рук человека: там были украдены ни много ни мало — хвосты лошадей!
Бесконечна была хроника краж в старом Петербурге. Среди банальных преступлений случались и нерядовые — те, которым находилось место на газетных страницах.
Напоследок процитируем «Ленинградскую правду» за август 1924 года: «Чуть ли не каждый день в городских садах происходят кражи цветов. Вчера воры с поличным были пойманы на поле Жертв Революции и в Исаакиевском сквере».
Вот уже в полном смысле слова банально. И — увы! — знакомо по нынешним временам.
Вечная тема, что ни говори...
ФОТО Александры Цукановой
Биржевой ажиотаж
«В большой Морской в погребу под домом купца Нагеля у купора Демута продаются разные вина, также Лимбургской сыр и прочее; а особливо разные старые вина всех сортов, оставшие после покойного барона Вольфа».
Это «Санкт-Петербургские ведомости» за март 1760 года. Первое печатное упоминание о знаменитом Демутовом трактире, в котором позже останавливался Пушкин и которому нашлось место в биографиях Грибоедова, Гоголя, Мицкевича, да и многих других великих.
В истории Демутова трактира был и примечательный эпизод, связанный с биржевой лихорадкой 1860-х годов. В ту пору российская промышленность стремительно развивалась, возникали все новые акционерные общества, а значит, все большее значение приобретали биржи и биржевая игра.
Как вспоминал современник, «в 1868 — 1869 годах Петербург, Москва, Одесса — одним словом, все главные города — увлеклись биржевой игрой до нездоровых размеров. Весь народ, даже неграмотный, усвоил себе понятие о процентных бумагах, свободно обращающихся на биржах, о разных акциях, облигациях и т. д.». Насчет неграмотных, конечно, тут есть преувеличение, но в числе биржевых игроков была и вправду пестрая публика, включая даже дам. Их привлекало одно: цены на акции постоянно росли, а значит, можно было рассчитывать на существенную прибавку к своим доходам.
Однако такой ажиотаж привел к тому, что цены на акции стали вести себя непредсказуемо: то росли, то неожиданно падали. А потому 104 крупнейших питерских финансиста решили создать теневую биржу, которая бы еще до торгов устанавливала курсы ценных бумаг и пресекала тем самым неожиданные перепады курсов.
Биржа эта разместилась в «Демуте» - и гостиница стала настоящим штабом биржевых спекуляций. Репортер «Санкт-Петербургских ведомостей» писал: «В Демутовом отеле собирались представители разных общественных слоев и положений: маклера, банкиры, генералы, чиновники. Они собирались утром от 1 1/2 до 2 1/2 часов и за бокалами шампанского гнали вверх бумаги, без всякого разбора... Установив цены, члены отеля отправлялись на биржу».
Влияние демутовой биржи было так велико, что с ней считалось и правительство. Особенно влиятельной фигурой среди демутовцев был их негласный глава Альфред Бетлинг, 25-летний коммерсант, владелец полуторамиллионного состояния, доставшегося ему от отца. Именно он во многом определял погоду на бирже. Состояние позволяло ему играть не только на повышение, но и на понижение: скажем, предлагать какие-нибудь акции по явно заниженной цене. Такая продажа самим своим фактом роняла цены на эти акции, а Бетлинг быстро скупал их по новой цене. Поэтому биржевые маклеры знали: если Бетлинг со своими демутовцами играет на повышение, биржа будет спокойной, если на понижение — жди треволнений.
Легкие деньги столь же легко тратились. Еженедельно демутовские биржевики устраивали себе широкие развлечения. «На эти праздники уходили сотни тысяч рублей так же быстро, как быстро они приобретались. Разгул устраивался обыкновенно по субботам, после недели, принесшей громадные барыши. Сначала обед с возлияниями и какой-нибудь Альфонсиной или Сюзеттой... После обеда, который продолжался по-римски — несколько часов, компания отправлялась к Излеру, где артистки служат ей предметом развлечений... Восходящее солнце застает их измятыми, изможденными, но еще бодрствующими».
Первый звонок прозвучал в марте 1869 года, когда цены ненадолго обвалились, но затем снова поднялись. Но настоящий крах биржи наступил через полгода, когда банки неожиданно отказались давать биржевым спекулянтам ссуды. Поскольку цены на акции были уже очень высоки, дальнейшая их массовая покупка стала невозможной. Началась паника, цены стали падать стремительно и бесконтрольно. В полной растерянности были и демутовцы.
К 4 сентября на бирже не осталось покупателей: все только продавали акции. Но продавали, разумеется, безуспешно.
Многие биржевики тогда разорились — в том числе и Альфред Бетлинг, признанный по суду несостоятельным должником. Демутова биржа, правда, пыталась еще собираться, но прежнего влияния на события уже не имела. И вскоре ей пришел конец.
«В большой Морской в погребу под домом купца Нагеля у купора Демута продаются разные вина, также Лимбургской сыр и прочее; а особливо разные старые вина всех сортов, оставшие после покойного барона Вольфа».
Это «Санкт-Петербургские ведомости» за март 1760 года. Первое печатное упоминание о знаменитом Демутовом трактире, в котором позже останавливался Пушкин и которому нашлось место в биографиях Грибоедова, Гоголя, Мицкевича, да и многих других великих.
В истории Демутова трактира был и примечательный эпизод, связанный с биржевой лихорадкой 1860-х годов. В ту пору российская промышленность стремительно развивалась, возникали все новые акционерные общества, а значит, все большее значение приобретали биржи и биржевая игра.
Как вспоминал современник, «в 1868 — 1869 годах Петербург, Москва, Одесса — одним словом, все главные города — увлеклись биржевой игрой до нездоровых размеров. Весь народ, даже неграмотный, усвоил себе понятие о процентных бумагах, свободно обращающихся на биржах, о разных акциях, облигациях и т. д.». Насчет неграмотных, конечно, тут есть преувеличение, но в числе биржевых игроков была и вправду пестрая публика, включая даже дам. Их привлекало одно: цены на акции постоянно росли, а значит, можно было рассчитывать на существенную прибавку к своим доходам.
Однако такой ажиотаж привел к тому, что цены на акции стали вести себя непредсказуемо: то росли, то неожиданно падали. А потому 104 крупнейших питерских финансиста решили создать теневую биржу, которая бы еще до торгов устанавливала курсы ценных бумаг и пресекала тем самым неожиданные перепады курсов.
Биржа эта разместилась в «Демуте» - и гостиница стала настоящим штабом биржевых спекуляций. Репортер «Санкт-Петербургских ведомостей» писал: «В Демутовом отеле собирались представители разных общественных слоев и положений: маклера, банкиры, генералы, чиновники. Они собирались утром от 1 1/2 до 2 1/2 часов и за бокалами шампанского гнали вверх бумаги, без всякого разбора... Установив цены, члены отеля отправлялись на биржу».
Влияние демутовой биржи было так велико, что с ней считалось и правительство. Особенно влиятельной фигурой среди демутовцев был их негласный глава Альфред Бетлинг, 25-летний коммерсант, владелец полуторамиллионного состояния, доставшегося ему от отца. Именно он во многом определял погоду на бирже. Состояние позволяло ему играть не только на повышение, но и на понижение: скажем, предлагать какие-нибудь акции по явно заниженной цене. Такая продажа самим своим фактом роняла цены на эти акции, а Бетлинг быстро скупал их по новой цене. Поэтому биржевые маклеры знали: если Бетлинг со своими демутовцами играет на повышение, биржа будет спокойной, если на понижение — жди треволнений.
Легкие деньги столь же легко тратились. Еженедельно демутовские биржевики устраивали себе широкие развлечения. «На эти праздники уходили сотни тысяч рублей так же быстро, как быстро они приобретались. Разгул устраивался обыкновенно по субботам, после недели, принесшей громадные барыши. Сначала обед с возлияниями и какой-нибудь Альфонсиной или Сюзеттой... После обеда, который продолжался по-римски — несколько часов, компания отправлялась к Излеру, где артистки служат ей предметом развлечений... Восходящее солнце застает их измятыми, изможденными, но еще бодрствующими».
Первый звонок прозвучал в марте 1869 года, когда цены ненадолго обвалились, но затем снова поднялись. Но настоящий крах биржи наступил через полгода, когда банки неожиданно отказались давать биржевым спекулянтам ссуды. Поскольку цены на акции были уже очень высоки, дальнейшая их массовая покупка стала невозможной. Началась паника, цены стали падать стремительно и бесконтрольно. В полной растерянности были и демутовцы.
К 4 сентября на бирже не осталось покупателей: все только продавали акции. Но продавали, разумеется, безуспешно.
Многие биржевики тогда разорились — в том числе и Альфред Бетлинг, признанный по суду несостоятельным должником. Демутова биржа, правда, пыталась еще собираться, но прежнего влияния на события уже не имела. И вскоре ей пришел конец.
По рецепту Чехова
Антон Павлович Чехов, москвич, в Петербурге бывал не так уж часто. И в «Санкт-Петербургских ведомостях» не печатался. И все-таки с газетой он соприкасался не раз...
В 1884 году Чехов еще не был великим. Писал он легкие рассказы, юморески и сочинил в их числе «Дачные правила» — собрание шутливых советов дачникам. Есть там и такая рекомендация:
«Если ты влюблен, то возьми: 1/2 фунта александрийского листа, штоф водки, ложку скипидару, 1/4 фунта семибратней крови и 1/2 фунта жженых «Петербургских ведомостей», смешай всё это и употреби в один прием. Причиненная этим средством болезнь заставит тебя выехать из дачи в город за врачебною помощью и тебе будет не до любви».
Вот уж загадка, почему в рецепт попали именно «Санкт-Петербургские ведомости». Тайна творчества! Одно очевидно: раз Чехов назвал газету, значит, он ее знал и читал.
Читал он «Санкт-Петербургские ведомости» и потом. Например, через два года, когда выпустил свою вторую книжку «Пестрые рассказы». Антон Павлович тогда внимательно следил за реакцией прессы на книжку. Литературным критиком нашей газеты был в то время полковник Генштаба Владимир Петерсен, писавший под псевдонимом Н. Ладожский, — и он по-военному решительно противопоставил свежесть и остроумие Чехова шаблонности многих его коллег. Да и назвал статью весьма определенно: «Обещающий талант».
Чехову вырезку с этой статьей прислал его давний знакомый писатель Николай Лейкин — один из тех, кого полковник Петерсен упрекнул в шаблонности. Антон Павлович отвечал: «Вернувшись вчера из Москвы, я получил Вашу посылку — вырезку из «Петерб. вед.». Большое Вам спасибо, черт знает какое большое!». И тут же, чтобы утешить Лейкина: « Критика Ладожского (кто он?) неважная. Много слов, но мало дела, но все-таки приятно и лестно».
Лестно было Чехову и в этот раз, и потом: в 1886-м, 1887-м, 1888-м «Санкт-Петербургские ведомости» не раз писали об Антоне Павловиче. И всегда с теплотой. Чехов ценил это и старался обеспечить редакцию своими новыми книгами: вот из его письма брату Александру, жившему в северной столице: «В Москве «Сумерки» покупаются недурно. Послан ли 1 экз. ... в «Петерб. ведомости»?..». А через пару месяцев нетерпеливое напоминание: «Я жду вырезку из «Петерб. ведомостей».
Неудивительно, что даже дяде Митрофану Егоровичу Чехов не преминул написать горделиво-шутливое: «В Петербурге я теперь самый модный писатель. Это видно из газет и журналов, которые в конце 1886 года занимались мной, трепали на все лады мое имя и превозносили меня паче заслуг. «Новое время» и «Петербургские ведомости» — две большие питерские газеты — тоже треплют Чехова...».
Потом как-то сложилось, что «Санкт-Петербургские ведомости» и Чехов отдалились друг от друга. Но контактов не разорвали. Большую и по обыкновению теплую статью о писателе газета напечатала, например, в двух январских номерах 1903 года И хотя сам Чехов отозвался об этой статье совсем не восторженно — «читал о себе в «Петербургских ведомостях» фельетон Батюшкова: довольно плохо-с. Точно ученик VI класса, подающий надежды, писал...» — вырезка с этой статьей сохранилась в архиве Антона Павловича.
До смерти великого писателя оставался тогда лишь год с небольшим...
Антон Павлович Чехов, москвич, в Петербурге бывал не так уж часто. И в «Санкт-Петербургских ведомостях» не печатался. И все-таки с газетой он соприкасался не раз...
В 1884 году Чехов еще не был великим. Писал он легкие рассказы, юморески и сочинил в их числе «Дачные правила» — собрание шутливых советов дачникам. Есть там и такая рекомендация:
«Если ты влюблен, то возьми: 1/2 фунта александрийского листа, штоф водки, ложку скипидару, 1/4 фунта семибратней крови и 1/2 фунта жженых «Петербургских ведомостей», смешай всё это и употреби в один прием. Причиненная этим средством болезнь заставит тебя выехать из дачи в город за врачебною помощью и тебе будет не до любви».
Вот уж загадка, почему в рецепт попали именно «Санкт-Петербургские ведомости». Тайна творчества! Одно очевидно: раз Чехов назвал газету, значит, он ее знал и читал.
Читал он «Санкт-Петербургские ведомости» и потом. Например, через два года, когда выпустил свою вторую книжку «Пестрые рассказы». Антон Павлович тогда внимательно следил за реакцией прессы на книжку. Литературным критиком нашей газеты был в то время полковник Генштаба Владимир Петерсен, писавший под псевдонимом Н. Ладожский, — и он по-военному решительно противопоставил свежесть и остроумие Чехова шаблонности многих его коллег. Да и назвал статью весьма определенно: «Обещающий талант».
Чехову вырезку с этой статьей прислал его давний знакомый писатель Николай Лейкин — один из тех, кого полковник Петерсен упрекнул в шаблонности. Антон Павлович отвечал: «Вернувшись вчера из Москвы, я получил Вашу посылку — вырезку из «Петерб. вед.». Большое Вам спасибо, черт знает какое большое!». И тут же, чтобы утешить Лейкина: « Критика Ладожского (кто он?) неважная. Много слов, но мало дела, но все-таки приятно и лестно».
Лестно было Чехову и в этот раз, и потом: в 1886-м, 1887-м, 1888-м «Санкт-Петербургские ведомости» не раз писали об Антоне Павловиче. И всегда с теплотой. Чехов ценил это и старался обеспечить редакцию своими новыми книгами: вот из его письма брату Александру, жившему в северной столице: «В Москве «Сумерки» покупаются недурно. Послан ли 1 экз. ... в «Петерб. ведомости»?..». А через пару месяцев нетерпеливое напоминание: «Я жду вырезку из «Петерб. ведомостей».
Неудивительно, что даже дяде Митрофану Егоровичу Чехов не преминул написать горделиво-шутливое: «В Петербурге я теперь самый модный писатель. Это видно из газет и журналов, которые в конце 1886 года занимались мной, трепали на все лады мое имя и превозносили меня паче заслуг. «Новое время» и «Петербургские ведомости» — две большие питерские газеты — тоже треплют Чехова...».
Потом как-то сложилось, что «Санкт-Петербургские ведомости» и Чехов отдалились друг от друга. Но контактов не разорвали. Большую и по обыкновению теплую статью о писателе газета напечатала, например, в двух январских номерах 1903 года И хотя сам Чехов отозвался об этой статье совсем не восторженно — «читал о себе в «Петербургских ведомостях» фельетон Батюшкова: довольно плохо-с. Точно ученик VI класса, подающий надежды, писал...» — вырезка с этой статьей сохранилась в архиве Антона Павловича.
До смерти великого писателя оставался тогда лишь год с небольшим...
ФОТО Александры Цукановой
Ленину от ленинградцев
История современных «Санкт-Петербургских ведомостей» неотделима от истории еще одной газеты — «Ленинградской правды». Именно на базе ее коллектива в 1991 году было решено возродить старейшее печатное издании города и страны. А потому завершающий аккорд нашей исторической страницы — из жизни «Ленправды»...
14 ноября 1924 года «Ленинградская правда» сообщила горожанам: «Сейчас поднят вопрос о том, чтобы превратить в памятник Ленину Александровскую колонну на пл. Урицкого. Эту колонну до сих пор венчает фигура ангела. Вместо нее временно предполагается водрузить красный стяг... Завтра будет произведен осмотр колонны для выяснения размеров нового памятника и положения, которое он займет на площади».
Интересно — какой была реакция горожан на эту новость? Одно известно достоверно: защитники исторического облика встали на дыбы. А вот обычные, рядовые ленинградцы? Скорее всего, они не очень-то и удивились — ведь время было такое, что проекты памятников Ленину рождались один за другим.
Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года. Деньги на памятник ему в Петрограде (еще Петрограде!) начали собирать 23 января. А 16 апреля 1924 года состоялась торжественная закладка монумента у Финляндского вокзала. При торжестве присутствовали первые лица города во главе с Григорием Зиновьевым; на закладном камне черного гранита было написано одно только слово: «Ленин». А на закладной доске был более обширный текст: «СССР. В 1924 г. 16 апреля рабочими Ленинграда совершена торжественная закладка памятника своему вождю В. И. Ленину в день 7 годовщины возвращения В. И. в СССР». Отметим примечательное здесь «СССР» — событие-то относится к 1917 году...
Один за другим рождаются и другие проекты. Ленинградские дети хотят возвести свой собственный памятник Ленину. Железнодорожникам хочется поставить памятник на площади Восстания (эта идея почти осуществится в 1957 году: на площади откроют закладной камень будущего ленинского монумента, но сам памятник так и не появится...).
Ну и, наконец, идея с Александровской колонной. Сообщив первые новости, «Ленинградская правда» и дальше следит за развитием событий. В декабре, например, сообщает уже вполне определенно: «По постановлению Губисполкома в ближайшие дни будет снята фигура ангела с колонны... Вместо ангела на колонне будет воздвигнута бронзовая фигура Ленина». Еще через несколько дней читатели узнают детали проекта: « Колонну должна венчать бронзовая фигура Ильича, во весь рост, изображающая его в момент речи с протянутой рукой вперед. Подвергнется переделке сама колонна. Барельефы, находящиеся на нижней ее части и изображающие эпизоды из войны 1812 г., будут заменены новыми, которые должны дать художественное представление о важнейших событиях в российском революционном движении».
Все уже пошло своим чередом, судьба колонны казалась решенной, но тут к делу подключился нарком просвещения А. В. Луначарский. Его энергичные и весьма аргументированные письма Зиновьеву заставили власти отказаться от экстравагантной затеи.
А вот памятник у Финляндского вокзала открылся благополучно. Он стоит и доныне, да и будет стоять впредь, ведь государство приняло его под свою охрану. Из множества питерских памятников Ленину он — старейший.
История современных «Санкт-Петербургских ведомостей» неотделима от истории еще одной газеты — «Ленинградской правды». Именно на базе ее коллектива в 1991 году было решено возродить старейшее печатное издании города и страны. А потому завершающий аккорд нашей исторической страницы — из жизни «Ленправды»...
14 ноября 1924 года «Ленинградская правда» сообщила горожанам: «Сейчас поднят вопрос о том, чтобы превратить в памятник Ленину Александровскую колонну на пл. Урицкого. Эту колонну до сих пор венчает фигура ангела. Вместо нее временно предполагается водрузить красный стяг... Завтра будет произведен осмотр колонны для выяснения размеров нового памятника и положения, которое он займет на площади».
Интересно — какой была реакция горожан на эту новость? Одно известно достоверно: защитники исторического облика встали на дыбы. А вот обычные, рядовые ленинградцы? Скорее всего, они не очень-то и удивились — ведь время было такое, что проекты памятников Ленину рождались один за другим.
Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года. Деньги на памятник ему в Петрограде (еще Петрограде!) начали собирать 23 января. А 16 апреля 1924 года состоялась торжественная закладка монумента у Финляндского вокзала. При торжестве присутствовали первые лица города во главе с Григорием Зиновьевым; на закладном камне черного гранита было написано одно только слово: «Ленин». А на закладной доске был более обширный текст: «СССР. В 1924 г. 16 апреля рабочими Ленинграда совершена торжественная закладка памятника своему вождю В. И. Ленину в день 7 годовщины возвращения В. И. в СССР». Отметим примечательное здесь «СССР» — событие-то относится к 1917 году...
Один за другим рождаются и другие проекты. Ленинградские дети хотят возвести свой собственный памятник Ленину. Железнодорожникам хочется поставить памятник на площади Восстания (эта идея почти осуществится в 1957 году: на площади откроют закладной камень будущего ленинского монумента, но сам памятник так и не появится...).
Ну и, наконец, идея с Александровской колонной. Сообщив первые новости, «Ленинградская правда» и дальше следит за развитием событий. В декабре, например, сообщает уже вполне определенно: «По постановлению Губисполкома в ближайшие дни будет снята фигура ангела с колонны... Вместо ангела на колонне будет воздвигнута бронзовая фигура Ленина». Еще через несколько дней читатели узнают детали проекта: « Колонну должна венчать бронзовая фигура Ильича, во весь рост, изображающая его в момент речи с протянутой рукой вперед. Подвергнется переделке сама колонна. Барельефы, находящиеся на нижней ее части и изображающие эпизоды из войны 1812 г., будут заменены новыми, которые должны дать художественное представление о важнейших событиях в российском революционном движении».
Все уже пошло своим чередом, судьба колонны казалась решенной, но тут к делу подключился нарком просвещения А. В. Луначарский. Его энергичные и весьма аргументированные письма Зиновьеву заставили власти отказаться от экстравагантной затеи.
А вот памятник у Финляндского вокзала открылся благополучно. Он стоит и доныне, да и будет стоять впредь, ведь государство приняло его под свою охрану. Из множества питерских памятников Ленину он — старейший.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Двадцатилетний командир. История "мальчишек с Кондратьевского проспекта"
Генерал-майор в отставке Анатолий Станиславович Круковский помнит, как строился кинотеатр «Гигант». Было это еще до войны, в 1930-е годы, и они, мальчишки с Кондратьевского проспекта, потом бегали туда смотреть фильмы.
Запись в приказах. Что означало понятие «пришлые люди» в XVII веке?
Eще в 1654 г. (ПСЗ. 25 мая. № 126) в законодательстве царя Алексея Михайловича встречается такое понятие, как «запись в приказах», то есть регистрация, которая нужна была для законного проживания в Москве «пришлых людей».