Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Татьяна ЗАБОЗЛАЕВА
Запись в приказах. Что означало понятие «пришлые люди» в XVII веке?
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
ФОТО Sebastian Pichler on Unsplash
Дата публикации: 1 ноября 2024
Понятие прописки по месту жительства ассоциируется в нашем сознании исключительно с Советским Союзом. На самом деле еще в 1654 г. (ПСЗ. 25 мая. № 126) в законодательстве царя Алексея Михайловича встречается такое понятие, как «запись в приказах», то есть регистрация, которая нужна была для законного проживания в Москве «пришлых людей».
В этом же указе присутствовал и грозный окрик по отношению к коренным москвичам, которым категорически запрещалось держать у себя на дворах чужих людей, «не объявив их и не записав в приказах».
В дальнейшем преемники Алексея Михайловича возвращались к этому установлению вновь и вновь, довольно вспомнить указы царя Федора Алексеевича (ПСЗ. 1677. 12 марта. № 683. 1679. 22 марта. № 756. 1681. 31 авг. № 891), по которым за содержание приезжих без объявления в приказах следовало суровое наказание — сдача в солдаты, а по указу № 891, штраф в 10 рублей. Царевна Софья продолжила в том же духе, повысив штраф в два раза, а также начала постепенно закреплять людей за теми местами, где они родились (ПСЗ. 1683. 26 февр. № 995). Кроме того, ее правительство снарядило сыщиков для отыскания беглых и приведения фактического проживания русских людей в соответствие с «писцовыми и переписными книгами» (ПСЗ. 1683. 2 марта. № 997, 998). Одновременно с этим были устроены заставы для поимки русских людей, самовольно отправляющихся в Сибирь, где жизнь была свободнее (ПСЗ. 1683. 24 июня. № 1030). Разумеется, в населенных пунктах было, как и прежде, запрещено принимать пришлых и гулящих людей без поручных записей (то есть без поручительств), а тех, кто уже поселился на новом месте, следовало переписать до 1 мая (ПСЗ. 1684. 8 апр. № 1072). В следующем указе (ПСЗ. 1684. 22 апр. № 1073) было разъяснено, как делать «запись» и как давать «выпись», то есть справку, удостоверяющую запись.
Но, видимо, все эти постановления не действовали или действовали плохо. Ибо в 1686 г. (ПСЗ. 19 марта. № 1181) появился пространный патетический, на повышенных тонах указ о том, чтобы в Москве во дворах и в харчевнях, и в дворницких ни у кого никаких пришлых и гулящих людей без поручных записей отнюдь не иметь. Ежели человек пришел без поручительства, то тут же его тащить в Земский приказ для записи в книгах. Там каждый записанный должен был получить соответствующее свидетельство, разрешающее ему в столице жить и работать. Причем отвечающему за эту документацию старому подьячему (то есть чиновнику) было указано «под большим страхом и наказанием и под казнью, чтобы он тех людей записывал» и выдавал бы им разрешения на работу «без задержания и без взяток». Люди, как утверждало правительство, не должны терпеть убытка в заработке, теряя попусту время в ожидании свидетельства. Указ в очередной раз подтверждал, «чтобы всяких чинов люди на Москве были в ведомостях, чтобы от тех пришлых людей на Москве дурна и воровства не было».
Понять правительственные меры нетрудно. Россия все еще не могла оправиться от последствий Смутного времени, и нужны были какие-то властные рычаги для охраны жителей хотя бы столицы от злоумышленников и бандитов. И посему юный Петр I, лишь оперившись, развернул чрезвычайную кампанию по учету и регистрации подданных. Он не только ужесточил правила прописки для разных слоев населения (См., например: ПСЗ. 1691. 22 ноября, № 1420. 16 дек. № 1427. 1692. 16 ноября. №1454.1694. 14 марта. № 1490.1695.
2 апр. № 1509. 1698. 14 марта. № 1623. 23 марта. № 1625. Авг. № 1645. 1699. 24 февр. № 1678), но и ввел для едущих из одной местности в другую своеобразные путевые листы, или подорожные, с описанием маршрута (ПСЗ. 1701. 8 ноября. № 1877), а в 1714 г. (ПСЗ. 9 февр. № 2794) объявил Москву «закрытым» городом: тех, кто жил в московских слободах или приехал из других мест, на жительство в Москву больше не велено было пускать. А тех, кто успел поселиться, — «согнать со дворов».
В дальнейшем преемники Алексея Михайловича возвращались к этому установлению вновь и вновь, довольно вспомнить указы царя Федора Алексеевича (ПСЗ. 1677. 12 марта. № 683. 1679. 22 марта. № 756. 1681. 31 авг. № 891), по которым за содержание приезжих без объявления в приказах следовало суровое наказание — сдача в солдаты, а по указу № 891, штраф в 10 рублей. Царевна Софья продолжила в том же духе, повысив штраф в два раза, а также начала постепенно закреплять людей за теми местами, где они родились (ПСЗ. 1683. 26 февр. № 995). Кроме того, ее правительство снарядило сыщиков для отыскания беглых и приведения фактического проживания русских людей в соответствие с «писцовыми и переписными книгами» (ПСЗ. 1683. 2 марта. № 997, 998). Одновременно с этим были устроены заставы для поимки русских людей, самовольно отправляющихся в Сибирь, где жизнь была свободнее (ПСЗ. 1683. 24 июня. № 1030). Разумеется, в населенных пунктах было, как и прежде, запрещено принимать пришлых и гулящих людей без поручных записей (то есть без поручительств), а тех, кто уже поселился на новом месте, следовало переписать до 1 мая (ПСЗ. 1684. 8 апр. № 1072). В следующем указе (ПСЗ. 1684. 22 апр. № 1073) было разъяснено, как делать «запись» и как давать «выпись», то есть справку, удостоверяющую запись.
Но, видимо, все эти постановления не действовали или действовали плохо. Ибо в 1686 г. (ПСЗ. 19 марта. № 1181) появился пространный патетический, на повышенных тонах указ о том, чтобы в Москве во дворах и в харчевнях, и в дворницких ни у кого никаких пришлых и гулящих людей без поручных записей отнюдь не иметь. Ежели человек пришел без поручительства, то тут же его тащить в Земский приказ для записи в книгах. Там каждый записанный должен был получить соответствующее свидетельство, разрешающее ему в столице жить и работать. Причем отвечающему за эту документацию старому подьячему (то есть чиновнику) было указано «под большим страхом и наказанием и под казнью, чтобы он тех людей записывал» и выдавал бы им разрешения на работу «без задержания и без взяток». Люди, как утверждало правительство, не должны терпеть убытка в заработке, теряя попусту время в ожидании свидетельства. Указ в очередной раз подтверждал, «чтобы всяких чинов люди на Москве были в ведомостях, чтобы от тех пришлых людей на Москве дурна и воровства не было».
Понять правительственные меры нетрудно. Россия все еще не могла оправиться от последствий Смутного времени, и нужны были какие-то властные рычаги для охраны жителей хотя бы столицы от злоумышленников и бандитов. И посему юный Петр I, лишь оперившись, развернул чрезвычайную кампанию по учету и регистрации подданных. Он не только ужесточил правила прописки для разных слоев населения (См., например: ПСЗ. 1691. 22 ноября, № 1420. 16 дек. № 1427. 1692. 16 ноября. №1454.1694. 14 марта. № 1490.1695.
2 апр. № 1509. 1698. 14 марта. № 1623. 23 марта. № 1625. Авг. № 1645. 1699. 24 февр. № 1678), но и ввел для едущих из одной местности в другую своеобразные путевые листы, или подорожные, с описанием маршрута (ПСЗ. 1701. 8 ноября. № 1877), а в 1714 г. (ПСЗ. 9 февр. № 2794) объявил Москву «закрытым» городом: тех, кто жил в московских слободах или приехал из других мест, на жительство в Москву больше не велено было пускать. А тех, кто успел поселиться, — «согнать со дворов».

Петр I готовил Россию к паспортизации. Обстоятельно и подробно эта тема была заявлена 30 октября 1719 г. (ПСЗ. № 3445). Тогда в указе из Военной коллегии сообщалось, что каждый армеец, который будет остановлен на дороге, «а пашпорта или проезжева или прохожева письма иметь не будет», окажется приравнен к людям недобрым, или попросту ворам.
Отсюда указано было уже всем жителям России, не только военным, «чтоб никто никуда без проезжих и прохожих писем из города в город и из села в село не ездил и не ходил; но каждый бы имел от начальств своих пашпорт или пропускное письмо, как о том Его Царского Величества особливые указы повелевают и чтоб всем вообще и каждому особо было о том ведомо».
ФОТО из архива "СПб ведомостей"
Отсюда указано было уже всем жителям России, не только военным, «чтоб никто никуда без проезжих и прохожих писем из города в город и из села в село не ездил и не ходил; но каждый бы имел от начальств своих пашпорт или пропускное письмо, как о том Его Царского Величества особливые указы повелевают и чтоб всем вообще и каждому особо было о том ведомо».
ФОТО из архива "СПб ведомостей"
Для повсеместного распространения этого документа велено было его размножить и читать публично «во всем государстве и во всех церквах, в городах и в уездах, также и в монастырях во все воскресные, а по ярмаркам — в торговые дни, при собрании народа... дабы незнанием бы никто не отговаривался».
История этого начинания исследована в недавно вышедшей книге В. Г. Чернухи «Паспорт в России. 1719 — 1917», к которой мы отсылаем интересующихся. Здесь же отметим только, что в будущем паспортная система в императорской России постоянно совершенствовалась. Причем разных типов паспортов и на разные сроки выдаваемых в России всегда имелось огромное множество. Так, например, для простолюдинов, по указу Екатерины II (ПСЗ. 1772. 29 дек. № 13932), в паспортах надо было указывать рост и особенности внешности. Александр I в июле 1808 г. (ПСЗ. № 23194) распорядился, чтобы в паспортах, выдаваемых при отставке нижним чинам вместе с пенсией, указывалась бы сумма жалованья. А в царствование Николая I вышел сенатский указ «О показывании лет в паспортах, выдаваемых лицам, обязанным по достижении определенного возраста, избрать род жизни» (ПСЗ. 1834. 22 марта. № 6923). То есть паспорта в разные периоды нашей истории и для разных социальных слоев весьма отличались друг от друга. Единственное, что требовалось почти всегда, — это прописка.
15 октября 1809 г. (ПСЗ. № 23911) было опубликовано Положение для Конторы адресов в столицах, которые организовывались при полиции, с тем чтобы «всякого рода обоего пола люди, в частных домах какие-либо должности по найму или другим условиям отправляющие» записывались. Поначалу контора замысливалась в расчете на людей из простонародья, но, будучи постоянно реформируемой, она стала затрагивать все слои населения. И оказалось, что вообще-то такие адресные столы — это очень удобно. Возьмем пример из жизни.
В 1865 г. один малоизвестный поэт и, между прочим, офицер приехал в Петербург. Целью его посещения среди прочего было знакомство с поэтами сатирического журнала «Искра», в частности с Дмитрием Минаевым. На квартире Минаева не оказалось, а в адресном столе значилось, что он уехал на дачу в Лесное. Таким образом, найти адресата не составило никакого труда (См.: Мартьянов П. К. Дела и люди века. В 3 т. СПб., 1893. Т. I. С. 179). Кто из нас сегодня уведомляет полицию, что он отправился на дачу, — вопрос, конечно, риторический.
А между тем российские монархи были озабочены тем, чтобы ни на миг не выпускать своих подданных из виду. И вот еще один такой любопытный пример.
В 1833 г. (ПСЗ. 31 окт. № 6539) вышел указ, дозволяющий устроить сообщение экипажами между Москвой и Петербургом. Так вот, по этому поводу в обеих столицах были учреждены Конторы для приема и записи в книгу паспортов пассажиров, засвидетельствованных к выезду полицией. Для жителей Москвы в то же самое время были введены штрафы за необъявление в течение 24 часов в полицию обо всех приезжающих и отъезжающих, штраф был весомый — 5 рублей в сутки за каждого необъявленного (ПСЗ. 1834. 3 апр. № 6953). В этом указе речь шла только о Москве, но такого рода правила действовали и в других местностях империи, и не только при Николае I, но и при Николае II.
История этого начинания исследована в недавно вышедшей книге В. Г. Чернухи «Паспорт в России. 1719 — 1917», к которой мы отсылаем интересующихся. Здесь же отметим только, что в будущем паспортная система в императорской России постоянно совершенствовалась. Причем разных типов паспортов и на разные сроки выдаваемых в России всегда имелось огромное множество. Так, например, для простолюдинов, по указу Екатерины II (ПСЗ. 1772. 29 дек. № 13932), в паспортах надо было указывать рост и особенности внешности. Александр I в июле 1808 г. (ПСЗ. № 23194) распорядился, чтобы в паспортах, выдаваемых при отставке нижним чинам вместе с пенсией, указывалась бы сумма жалованья. А в царствование Николая I вышел сенатский указ «О показывании лет в паспортах, выдаваемых лицам, обязанным по достижении определенного возраста, избрать род жизни» (ПСЗ. 1834. 22 марта. № 6923). То есть паспорта в разные периоды нашей истории и для разных социальных слоев весьма отличались друг от друга. Единственное, что требовалось почти всегда, — это прописка.
15 октября 1809 г. (ПСЗ. № 23911) было опубликовано Положение для Конторы адресов в столицах, которые организовывались при полиции, с тем чтобы «всякого рода обоего пола люди, в частных домах какие-либо должности по найму или другим условиям отправляющие» записывались. Поначалу контора замысливалась в расчете на людей из простонародья, но, будучи постоянно реформируемой, она стала затрагивать все слои населения. И оказалось, что вообще-то такие адресные столы — это очень удобно. Возьмем пример из жизни.
В 1865 г. один малоизвестный поэт и, между прочим, офицер приехал в Петербург. Целью его посещения среди прочего было знакомство с поэтами сатирического журнала «Искра», в частности с Дмитрием Минаевым. На квартире Минаева не оказалось, а в адресном столе значилось, что он уехал на дачу в Лесное. Таким образом, найти адресата не составило никакого труда (См.: Мартьянов П. К. Дела и люди века. В 3 т. СПб., 1893. Т. I. С. 179). Кто из нас сегодня уведомляет полицию, что он отправился на дачу, — вопрос, конечно, риторический.
А между тем российские монархи были озабочены тем, чтобы ни на миг не выпускать своих подданных из виду. И вот еще один такой любопытный пример.
В 1833 г. (ПСЗ. 31 окт. № 6539) вышел указ, дозволяющий устроить сообщение экипажами между Москвой и Петербургом. Так вот, по этому поводу в обеих столицах были учреждены Конторы для приема и записи в книгу паспортов пассажиров, засвидетельствованных к выезду полицией. Для жителей Москвы в то же самое время были введены штрафы за необъявление в течение 24 часов в полицию обо всех приезжающих и отъезжающих, штраф был весомый — 5 рублей в сутки за каждого необъявленного (ПСЗ. 1834. 3 апр. № 6953). В этом указе речь шла только о Москве, но такого рода правила действовали и в других местностях империи, и не только при Николае I, но и при Николае II.
Чем оборачивались подобные строгости даже и для необыкновенных жителей России, мы знаем из мемуаров А. Г. Рубинштейна.
Совсем юным существом матушка увезла его за границу — он был вписан в паспорт матери. Прошли годы, мать вернулась на родину, Антон Григорьевич остался один в Европе, там у него паспорта никто не требовал. И когда в 1848 г. вернулся на родину, прямо на границе впервые услышал неизвестное ему слово «паспорт». Правда, тогда Рубинштейну еще повезло, на границе ему выдали какую-то квитанцию, по которой в Петербурге в заграничной таможне ему пообещали сделать паспорт. А дальше начались мытарства. Рубинштейн со своей квитанцией добрался до Петербурга, остановился в гостинице, но поутру дворник стал доискиваться паспорта. Паспорта не оказалось, Рубинштейна выселили.
И Антон Григорьевич отправился по знакомым, благо его как известного в свое время вундеркинда многие знали. Но всюду та же церемония с дворником повторялась. Теперь он уже стал общаться с полицейским начальством, которое на него орало, ругало его друзей, стращало их штрафами, а самого композитора обещало упечь в Сибирь. Не помогли даже те лица, которые бывали при дворе. И, похоже, только личное знакомство с императором помогло Рубинштейну выправить нужный документ, по которому дворник осуществлял через полицию требующуюся прописку.
ФОТО из архива "СПб ведомостей"
Совсем юным существом матушка увезла его за границу — он был вписан в паспорт матери. Прошли годы, мать вернулась на родину, Антон Григорьевич остался один в Европе, там у него паспорта никто не требовал. И когда в 1848 г. вернулся на родину, прямо на границе впервые услышал неизвестное ему слово «паспорт». Правда, тогда Рубинштейну еще повезло, на границе ему выдали какую-то квитанцию, по которой в Петербурге в заграничной таможне ему пообещали сделать паспорт. А дальше начались мытарства. Рубинштейн со своей квитанцией добрался до Петербурга, остановился в гостинице, но поутру дворник стал доискиваться паспорта. Паспорта не оказалось, Рубинштейна выселили.
И Антон Григорьевич отправился по знакомым, благо его как известного в свое время вундеркинда многие знали. Но всюду та же церемония с дворником повторялась. Теперь он уже стал общаться с полицейским начальством, которое на него орало, ругало его друзей, стращало их штрафами, а самого композитора обещало упечь в Сибирь. Не помогли даже те лица, которые бывали при дворе. И, похоже, только личное знакомство с императором помогло Рубинштейну выправить нужный документ, по которому дворник осуществлял через полицию требующуюся прописку.
ФОТО из архива "СПб ведомостей"
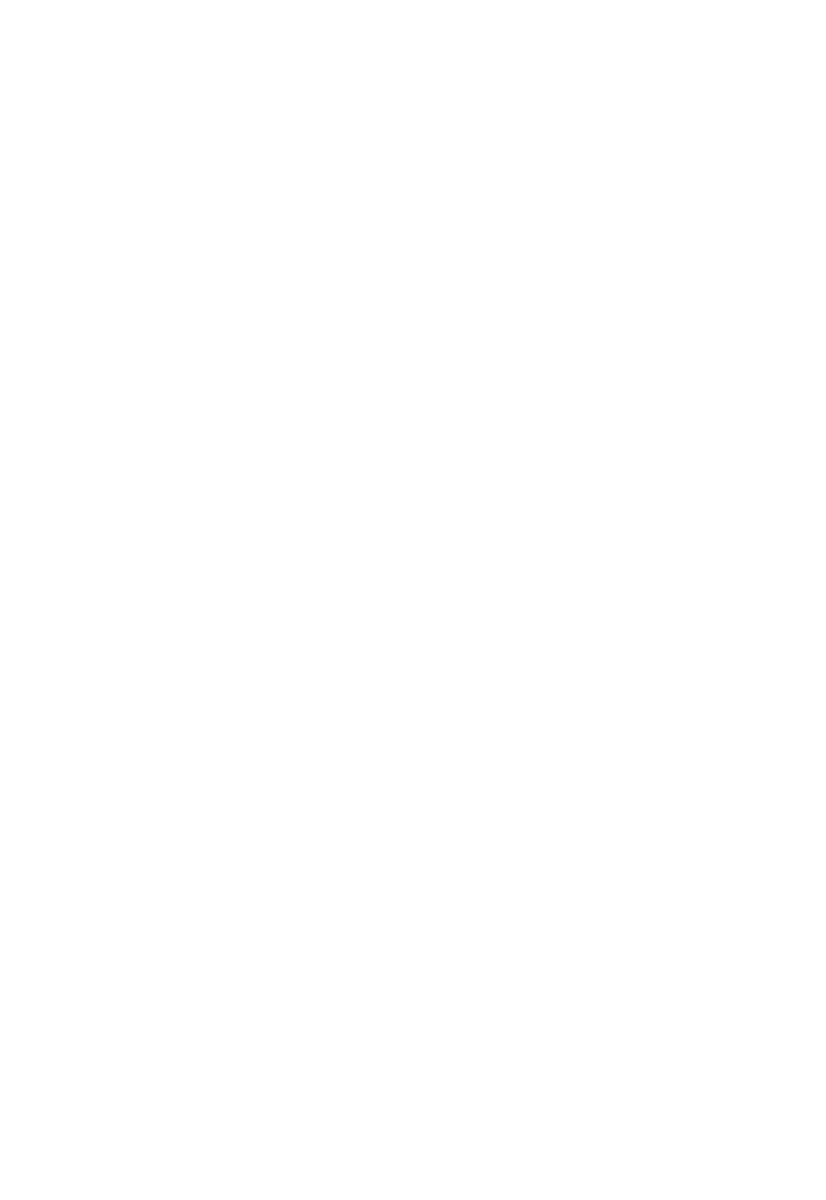
Кардинальные изменения в вопросах паспортизации произошли только в конце XIX в.
В 1894 г. (ПСЗ. 3 июня. № 10709) было опубликовано высочайше утвержденное
Александром III положение о видах на жительство, которое частично отменяло для подданных империи паспорта. Но никак не отменяло прописку.
По этому указу, местом постоянного жительства признавались:
1. Для дворян, чиновников, почетных граждан, купцов и разночинцев — место, где кто по службе или занятиям, или недвижимому имуществу имеет оседлость.
2. Для мещан и ремесленников — город, поселок или местечко, к которому они приписаны.
3. Для сельских обывателей — сельское общество или волость, к коим они также приписаны.
Никто не обязан был по этому указу иметь вид на жительство в месте своего постоянного пребывания, исключая лишь Петербург и Москву. А вот ежели собирался куда-то ехать далее пятидесяти верст от дома, то мог получить бесплатный билет на отлучку или паспортную книжку. Впрочем, подобных документов можно было и не допроситься, если оказывалось, что у человека имеются недоимки по государственным сборам. Когда речь шла о крестьянах, приписанных к сельским общинам (тот же советский колхоз!), то в действие вступал пресловутый человеческий фактор. Ибо разрешение на выезд и соответствующий документ сопровождения выдавало собрание старейшин, уломать которых не всегда и не у всех получалось.
Кто помнит пьесу Льва Толстого «Власть тьмы», тот, наверное, помнит и волнения старухи Матрены по поводу возможной приписки ее сына Никиты в другую деревню — в богатую семью. Никита работал у богатого крестьянина Петра, Петра убили. Никита захотел жениться на его вдове, а вот чтобы это разрешили да приписали бы его к богатому хозяйству, для того, рассуждала Матрена, надо бы попоить водочкой стариков новой общины.
Важная деталь : несмотря на реформы паспортной системы, в царствование Николая II для многих граждан оставались свои сложности в прописке по месту жительства, а также в передвижении по стране. Сложности, которые современный гражданин России не может себе нафантазировать даже в ночном кошмаре. Особенно это касалось молодых девушек до 21 года и замужних женщин. И те и другие не могли получить вид на жительство без разрешения отца или мужа.
Что это значило в действительности, весьма наглядно объяснила Наташа Труханова, впоследствии жена генерала графа А. А. Игнатьева. В середине XX в. были весьма популярны мемуары графа «Пятьдесят лет в строю», а вот мемуары супруги остались не замеченными.
Наталья в пятнадцать лет с небольшим вышла замуж за поручика Труханова и, как выяснилось, фиктивно: «Хотя мы вскоре после свадьбы с мужем и разъехались по взаимному соглашению навсегда, я все же отдельного «вида на жительство не имела, как и вообще тогда жена не имела отдельного от мужа паспорта...». Неоднократно Наташа подавала прошение с просьбой о разводе и всякий раз получала отказ. В конце концов будущая знаменитая танцовщица раздобыла справку из Филармонической школы, где она занималась. «Вот по этой-то бумажке, — писала Труханова, — я и проживала в Москве в течение трех лет до самого отъезда за границу. Это было вовсе не просто. Мы жили в Долгоруковском переулке, поблизости от генерал-губернатовского дома... то есть во втором Тверском участке, в котором полиция проявляла особую бдительность и усердие, охраняя особу великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы... Что это значило для меня лично? Примерно каждые десять дней меня вызывали в участок на «явку», обычно почему-то после двенадцати часов ночи». И дежурный пристав всякий раз грозил юной девушке, что он может выслать ее из Москвы в 24 часа (Игнатьева-Труханова Н. На сцене и за кулисами. М., 2003. С. 25-26).
В 1894 г. (ПСЗ. 3 июня. № 10709) было опубликовано высочайше утвержденное
Александром III положение о видах на жительство, которое частично отменяло для подданных империи паспорта. Но никак не отменяло прописку.
По этому указу, местом постоянного жительства признавались:
1. Для дворян, чиновников, почетных граждан, купцов и разночинцев — место, где кто по службе или занятиям, или недвижимому имуществу имеет оседлость.
2. Для мещан и ремесленников — город, поселок или местечко, к которому они приписаны.
3. Для сельских обывателей — сельское общество или волость, к коим они также приписаны.
Никто не обязан был по этому указу иметь вид на жительство в месте своего постоянного пребывания, исключая лишь Петербург и Москву. А вот ежели собирался куда-то ехать далее пятидесяти верст от дома, то мог получить бесплатный билет на отлучку или паспортную книжку. Впрочем, подобных документов можно было и не допроситься, если оказывалось, что у человека имеются недоимки по государственным сборам. Когда речь шла о крестьянах, приписанных к сельским общинам (тот же советский колхоз!), то в действие вступал пресловутый человеческий фактор. Ибо разрешение на выезд и соответствующий документ сопровождения выдавало собрание старейшин, уломать которых не всегда и не у всех получалось.
Кто помнит пьесу Льва Толстого «Власть тьмы», тот, наверное, помнит и волнения старухи Матрены по поводу возможной приписки ее сына Никиты в другую деревню — в богатую семью. Никита работал у богатого крестьянина Петра, Петра убили. Никита захотел жениться на его вдове, а вот чтобы это разрешили да приписали бы его к богатому хозяйству, для того, рассуждала Матрена, надо бы попоить водочкой стариков новой общины.
Важная деталь : несмотря на реформы паспортной системы, в царствование Николая II для многих граждан оставались свои сложности в прописке по месту жительства, а также в передвижении по стране. Сложности, которые современный гражданин России не может себе нафантазировать даже в ночном кошмаре. Особенно это касалось молодых девушек до 21 года и замужних женщин. И те и другие не могли получить вид на жительство без разрешения отца или мужа.
Что это значило в действительности, весьма наглядно объяснила Наташа Труханова, впоследствии жена генерала графа А. А. Игнатьева. В середине XX в. были весьма популярны мемуары графа «Пятьдесят лет в строю», а вот мемуары супруги остались не замеченными.
Наталья в пятнадцать лет с небольшим вышла замуж за поручика Труханова и, как выяснилось, фиктивно: «Хотя мы вскоре после свадьбы с мужем и разъехались по взаимному соглашению навсегда, я все же отдельного «вида на жительство не имела, как и вообще тогда жена не имела отдельного от мужа паспорта...». Неоднократно Наташа подавала прошение с просьбой о разводе и всякий раз получала отказ. В конце концов будущая знаменитая танцовщица раздобыла справку из Филармонической школы, где она занималась. «Вот по этой-то бумажке, — писала Труханова, — я и проживала в Москве в течение трех лет до самого отъезда за границу. Это было вовсе не просто. Мы жили в Долгоруковском переулке, поблизости от генерал-губернатовского дома... то есть во втором Тверском участке, в котором полиция проявляла особую бдительность и усердие, охраняя особу великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы... Что это значило для меня лично? Примерно каждые десять дней меня вызывали в участок на «явку», обычно почему-то после двенадцати часов ночи». И дежурный пристав всякий раз грозил юной девушке, что он может выслать ее из Москвы в 24 часа (Игнатьева-Труханова Н. На сцене и за кулисами. М., 2003. С. 25-26).
ФОТО из архива "СПб ведомостей"
Воспоминания Трухановой, конечно, впечатляют. Но при этом, согласитесь, нельзя не посочувствовать и правительству. Ведь великий князь Сергей Александрович, несмотря на экстраординарные меры предосторожности, все-таки оказался разорван на куски бомбой, брошенной террористом.
Но, возможно, десятки других жизней все же сохранила та паспортная система, которая была введена в России монархами дома Романовых. Почему так? Почему в России всегда требовались ограничения на свободу передвижения? Ответ кроется в особом геополитическом положении нашей страны, которое острее других сформулировал Николай I, когда сказал: «Расстояния — наше проклятье!».
Бескрайние пространства России при самой мизерной до сих пор плотности населения диктуют свои законы общежития. И это не чья-то личная злая воля, а самая что ни на есть объективная реальность.
Но, возможно, десятки других жизней все же сохранила та паспортная система, которая была введена в России монархами дома Романовых. Почему так? Почему в России всегда требовались ограничения на свободу передвижения? Ответ кроется в особом геополитическом положении нашей страны, которое острее других сформулировал Николай I, когда сказал: «Расстояния — наше проклятье!».
Бескрайние пространства России при самой мизерной до сих пор плотности населения диктуют свои законы общежития. И это не чья-то личная злая воля, а самая что ни на есть объективная реальность.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Двадцатилетний командир. История "мальчишек с Кондратьевского проспекта"
Генерал-майор в отставке Анатолий Станиславович Круковский помнит, как строился кинотеатр «Гигант». Было это еще до войны, в 1930-е годы, и они, мальчишки с Кондратьевского проспекта, потом бегали туда смотреть фильмы.
Блокадные уроки.
По страницам дневника учительницы
Зинаиды Шабуниной
... учительницы, удостоенной (в числе пяти ленинградских педагогов) ордена Ленина в декабре 1944 года. А 22 марта 1945 года, получившей звание заслуженного учителя РСФСР.