Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Светлана ЕРМОЛЕНКО
На передовой он пел, чтобы не было страшно другим. Воспоминания потомков очевидцев блокады
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Вырезка из газеты "Ленинградская правда" (2009 г.)
Дата публикации: 2 декабря 2024
Когда началась Великая Отечественная война, я перешла в третий класс и жила вместе с родителями в Кузнечном переулке, в доме № 14Б. 21 июня 1941 года мы с мамой отдыхали у родственников на даче в Вырице. Вдруг днем приехал папа Федор Михайлович Ермоленко и сказал, что надо всем возвращаться в Ленинград, потому что немцы напали на нас без предупреждения и фактически уже началась война.
Папа был инженером-связистом. Он работал на Московском вокзале, и его мобилизовали на второй день войны. Первое время он на несколько часов появлялся дома, а потом его направили на Ленинградский фронт в особую бригаду для налаживания постоянной связи между отдельными участками фронта (позднее он стал одним из командиров этой бригады).
Воевалось моему папе, как и всем, трудно. Приходилось ездить по многим участкам фронта, задерживаться в окопах на передовых позициях, если из-за артобстрела до штаба было не добраться. В отцовской бригаде в основном служили молодые красноармейцы. Они сильно рисковали собой, получали ранения, а некоторым было просто страшно на войне. Но надо знать характер моего отца — это был волевой, сильный человек и вместе с тем доброжелательный и справедливый. Он любил всякие прибаутки и в тяжелую минуту подбадривал бойцов. Нередко сам во время боя чинил рацию или соединял среди рвущихся вокруг снарядов поврежденный телефонный провод.
Много раз во время артобстрела он прикрывал собой молодых солдат, часто оставался с ними на передовой, а чтобы не боялись — пел им песни на белорусском языке (папа родился и вырос в Белоруссии). Он угощал их папиросами (тогда все офицеры курили «Беломорканал» и « Казбек»), а сам брал у них обыкновенную махорку, делился своим офицерским пайком и мог отдать последнюю банку консервов. Ко всем этим качествам можно прибавить его широкую образованность: перед войной он окончил ЛИИЖТ, хорошо знал художественную литературу, рисовал и писал стихи. О том, как воевал отец, нам с мамой рассказывал после войны его боевой друг Петр Петрович Кислый. А сам папа никогда не хвастал своими боевыми подвигами.
Мы с мамой уже в августе 1941 года благодаря стараниям отца были эвакуированы в глубь страны, в городок Камское Устье, что на Волге в Татарской АССР. Папа присылал нам туда фронтовые открытки с карикатурами на немецких солдат, Гитлера и Геббельса. Их выпускало Ленинградское военное издательство. На одной из открыток папа даже написал забавный собственный стишок.
Воевалось моему папе, как и всем, трудно. Приходилось ездить по многим участкам фронта, задерживаться в окопах на передовых позициях, если из-за артобстрела до штаба было не добраться. В отцовской бригаде в основном служили молодые красноармейцы. Они сильно рисковали собой, получали ранения, а некоторым было просто страшно на войне. Но надо знать характер моего отца — это был волевой, сильный человек и вместе с тем доброжелательный и справедливый. Он любил всякие прибаутки и в тяжелую минуту подбадривал бойцов. Нередко сам во время боя чинил рацию или соединял среди рвущихся вокруг снарядов поврежденный телефонный провод.
Много раз во время артобстрела он прикрывал собой молодых солдат, часто оставался с ними на передовой, а чтобы не боялись — пел им песни на белорусском языке (папа родился и вырос в Белоруссии). Он угощал их папиросами (тогда все офицеры курили «Беломорканал» и « Казбек»), а сам брал у них обыкновенную махорку, делился своим офицерским пайком и мог отдать последнюю банку консервов. Ко всем этим качествам можно прибавить его широкую образованность: перед войной он окончил ЛИИЖТ, хорошо знал художественную литературу, рисовал и писал стихи. О том, как воевал отец, нам с мамой рассказывал после войны его боевой друг Петр Петрович Кислый. А сам папа никогда не хвастал своими боевыми подвигами.
Мы с мамой уже в августе 1941 года благодаря стараниям отца были эвакуированы в глубь страны, в городок Камское Устье, что на Волге в Татарской АССР. Папа присылал нам туда фронтовые открытки с карикатурами на немецких солдат, Гитлера и Геббельса. Их выпускало Ленинградское военное издательство. На одной из открыток папа даже написал забавный собственный стишок.
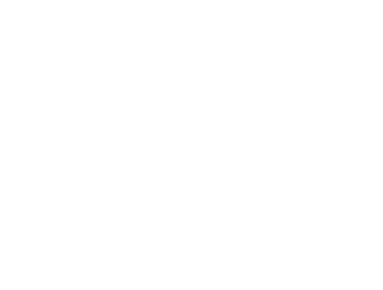
Кроме всего, мой отец был добрым человеком. В нашей ленинградской квартире остались на зиму, да так и застряли из-за блокады две немолодые соседки. Так вот папа не забывал их: вырвавшись на несколько часов с фронта в блокадный Ленинград или через других офицеров отдавал им часть своего сухого пайка: 2 — 3 буханки хлеба, консервы, немного сахара.
Без этого они бы не выжили. Такой был мой отец! Он дошел до Германии и закончил войну в звании подполковника военно-инженерных войск.
А наша с мамой жизнь в эвакуации тоже заслуживает внимания. Когда мы находились в Камском Устье, я училась в третьем классе местной школы. А маме пришлось устроиться официанткой в столовую для военнослужащих, чтобы как-то прокормиться и заплатить хозяину за жилье, весьма скромное и, кстати, очень холодное. Наш флигелек зимой не отапливался. И мы переехали в Чкаловскую область (ныне — Оренбургская) в крупное село, где оказалась в эвакуации семья маминой сестры.
Вырезка из газеты "Ленинградская правда" (1941 г.)
Без этого они бы не выжили. Такой был мой отец! Он дошел до Германии и закончил войну в звании подполковника военно-инженерных войск.
А наша с мамой жизнь в эвакуации тоже заслуживает внимания. Когда мы находились в Камском Устье, я училась в третьем классе местной школы. А маме пришлось устроиться официанткой в столовую для военнослужащих, чтобы как-то прокормиться и заплатить хозяину за жилье, весьма скромное и, кстати, очень холодное. Наш флигелек зимой не отапливался. И мы переехали в Чкаловскую область (ныне — Оренбургская) в крупное село, где оказалась в эвакуации семья маминой сестры.
Вырезка из газеты "Ленинградская правда" (1941 г.)
Местные жители не очень-то жаловали многочисленных эвакуированных, некоторые несознательные домохозяйки называли нас «выковырянные». Но таких было меньшинство, потом к нам все привыкли и помогали чем могли. Жили мы в глиняном бараке, где вся обстановка была — нары вдоль стен, русская печь, четыре табуретки и грубо сколоченный стол.
Председатель сельсовета выделил нам участок колхозной земли под огород и подарил свою собственную молоденькую козочку. Она была беленькая и очень ласковая. Ночью спала в нашем бараке, а днем в теплое время года убегала пастись в степь. Больше всех она любила меня.
Интересно, что нас сразу же хорошо встретили ребятишки, и мы с двоюродным братом быстро с ними подружились. Оно и понятно: у меня были взятые мамой из Ленинграда куклы и игрушки, а у брата — набор готовален для черчения, конструктор, учебники, цветные карандаши и интересные книжки. Наши мамы позаботились, чтобы у нас в далекой от дома стороне были любимые вещи, игрушки, которые мы разрешали брать местным ребятам.
Поздно вечером мы бегали на железнодорожную станцию, где стояли эшелоны, идущие на фронт. На первых платформах находились укрытые брезентом пушки и танки, а на последних — горы антрацита. Платформы охранялись часовыми. Мы подбирали с путей просыпанный уголь, а когда часовой уходил к началу состава, ребята взбирались на платформу и набирали 2 — 3 ведерка угля.
Детская дружба — что может быть прекраснее! Расставались мы с большой грустью, а девчонки даже плакали. Особенно мне было жалко оставлять козочку Зорьку. Девочкам я подарила на память свои куклы, а брат — цветные карандаши, конструктор, готовальни, книги и учебники.
Мы вернулись в Ленинград летом 1945 года. Благодаря дружбе со своей Зорькой я навсегда полюбила животных, что и определило мое дальнейшее призвание. Я окончила биологический факультет ЛГУ. Папа вернулся на работу на Московский вокзал, а мама устроилась в вечернюю школу преподавателем русского языка и литературы. Папа долго болел и умер в 1967 году от туберкулеза легких. Мама дожила до 90 лет. Я защитила кандидатскую диссертацию, вышла замуж и работала в Институте физиологии им. Павлова. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе.
Председатель сельсовета выделил нам участок колхозной земли под огород и подарил свою собственную молоденькую козочку. Она была беленькая и очень ласковая. Ночью спала в нашем бараке, а днем в теплое время года убегала пастись в степь. Больше всех она любила меня.
Интересно, что нас сразу же хорошо встретили ребятишки, и мы с двоюродным братом быстро с ними подружились. Оно и понятно: у меня были взятые мамой из Ленинграда куклы и игрушки, а у брата — набор готовален для черчения, конструктор, учебники, цветные карандаши и интересные книжки. Наши мамы позаботились, чтобы у нас в далекой от дома стороне были любимые вещи, игрушки, которые мы разрешали брать местным ребятам.
Поздно вечером мы бегали на железнодорожную станцию, где стояли эшелоны, идущие на фронт. На первых платформах находились укрытые брезентом пушки и танки, а на последних — горы антрацита. Платформы охранялись часовыми. Мы подбирали с путей просыпанный уголь, а когда часовой уходил к началу состава, ребята взбирались на платформу и набирали 2 — 3 ведерка угля.
Детская дружба — что может быть прекраснее! Расставались мы с большой грустью, а девчонки даже плакали. Особенно мне было жалко оставлять козочку Зорьку. Девочкам я подарила на память свои куклы, а брат — цветные карандаши, конструктор, готовальни, книги и учебники.
Мы вернулись в Ленинград летом 1945 года. Благодаря дружбе со своей Зорькой я навсегда полюбила животных, что и определило мое дальнейшее призвание. Я окончила биологический факультет ЛГУ. Папа вернулся на работу на Московский вокзал, а мама устроилась в вечернюю школу преподавателем русского языка и литературы. Папа долго болел и умер в 1967 году от туберкулеза легких. Мама дожила до 90 лет. Я защитила кандидатскую диссертацию, вышла замуж и работала в Институте физиологии им. Павлова. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Ленинградский салют Великой Победе.
Над погруженным во тьму Ленинградом впервые поднялись огненные фонтаны праздничного фейерверка
Можно уверенно утверждать, что эти кинокадры знакомы всем без исключения, ибо без них не обходится ни один рассказ о героической обороне Ленинграда: над заледеневшим простором Невы скрещиваются прожекторы, потом они опускаются и высвечивают ликующие толпы на набережных. Бледные, почти белые лица людей обращены к небу, а по щекам у них катятся крупные, как горох, слезы.
Как пытались расколоть Россию.
История гражданской войны от доктора исторических наук Владимира Калашникова
Продолжаем публикацию серии очерков по истории гражданской войны в России доктора исторических наук Владимира КАЛАШНИКОВА. В ранее опубликованных статьях было показано, что летом 1918 года крупномасштабная гражданская война в России стала возможной только на фоне вооруженной интервенции, которую осуществляли Германия и страны Антанты.