Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Подготовил Александр ЖАБСКИЙ
Романтик без иллюзий
Доктор исторических наук Евгений Анисимов о Петре Великом
Доктор исторических наук Евгений Анисимов о Петре Великом
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
ФОТО Александра Дроздова
Дата публикации: 16 декабря 2024
Научным руководителем крупного проекта Конгресс петровских городов является известный петербургский историк, профессор, автор множества книг Евгений Анисимов. Широкой публике Евгений Викторович знаком еще и как ведущий циклов передач «Дворцовые тайны» и « Кабинет истории» на телеканале « Культура».
— Евгений Викторович, почему Петр Великий в наше время опять оказался в центре внимания? Чем он для нас важен именно сегодня?
— Петр — это такое же урочище культуры, как и Пушкин. Он — тот, о ком и о чьих великих делах мы бы стали рассказывать в первую очередь, окажись с иностранцами где-нибудь на острове. Это наша непреходящая ценность, способная стать скрепляющим стержнем Отечества. В поисках национальной идеи мы должны опираться на какие-то ценности и людей, которые формировали лицо нации и государства.
— Но ведь Петр, как и всякая великая историческая личность, очень неоднозначен — в нем ищут истоки даже нынешних достижений и провалов, его до сих пор превозносят и порицают. Какое вокруг него объединение?
— Петр — это безупречной репутации человек. Несмотря ни на что. Когда говорят, что он посвятил себя служению Отечеству, то это не фанерная фраза, а истина, ибо Петр себя, свою жизнь, семью — все подчинил великой цели: поднять Россию. Это была фантастическая задача, Россия до него занимала в международном рейтинге место перед Молдавией и Валахией, которые были тогда частью владений Османской империи. А он за четверть века сумел вытащить страну из исторического небытия.
Конечно, цена оказалась очень высока. Конечно, он был основателем своеобазного ГУЛАГа, потому что наш город стал местом ссылки — по всей стране прекратили казни, чтобы свозить сюда преступников.
На первой шведской карте Петербурга, на месте нынешней площади Труда, что по-своему символично, нарисовано здание и на нем латинским буквами написано «barak».
Это место, где держали каторжников, которые летом гребли на галерах, а зимой забивали сваи стройки.
Но если уж говорить с точки зрения государственного прагматизма, то уж лучше Петр, чем Ленин или Сталин. Петр как бы сказал нам, что мы — европейцы. В идиотическом столкновении с западным миром состоит глубочайшая ошибка нашей истории. Наоборот, мы должны быть вместе с ними, потому что угрозы вокруг необыкновенно страшны. Особенно учитывая, что к середине века население России уменьшится еще на тридцать миллионов человек...
Начиная с петровской эпохи Россия стала дышать воздухом Запада. Достаточно посмотреть «Санкт-Петербургские ведомости» тех времен: на первой странице какой-то официоз, а все остальное — перепечатки из западных газет о происшествиях, которые там случились, и всевозможных событиях тамошней жизни. Это очень важно, потому что Петр прорвал нашу самоизоляцию. Хочу уточнить: изоляция была реальностью (нельзя представлять, что вокруг России розовые слоны ходили, врагов было много и многие здесь намеревались поживиться), а вот самоизоляция — нелепостью. Прервать ее даже более важно, потому что открытость предполагает в первую очередь внутреннюю свободу — ты сознаешь себя человеком не хуже, чем другие. Именно с петровской эпохи россиянин почувствовал себя полноценным. Он понимал, что в своей стране у него недостатки и все прочее — недаром Радищев, вернувшийся из-за границы, забывший русский язык, став его заново изучать, увидел как бы новыми глазами все, что в России происходило, — и все же подпитка от европейской культуры оказалась чрезвычайно важной.
Петр Первый, собственно говоря, заложил основы современного менталитета русского человека и вообще россиянина, потому что с ним в сознание наших людей вошел ряд общепринятых европейских норм, в том числе и поведения. Поэтому я считаю, что Петр дал мощный пинок и Россия — очень инерционная! — пришла в движение, которое не утихало многие годы, пока не появились его продолжатели — Екатерина II, Александр II...
За все это Петра, пока будет существовать русский язык, пока будут на нем думать, пока будет стоять этот город, люди будут вспоминать. Когда смотришь, как дети садятся на колени шемякинского памятника, так и вспоминается песня Розенбаума, что от рожденья до смерти мы неразумные дети Петровы.
Конечно, цена оказалась очень высока. Конечно, он был основателем своеобазного ГУЛАГа, потому что наш город стал местом ссылки — по всей стране прекратили казни, чтобы свозить сюда преступников.
На первой шведской карте Петербурга, на месте нынешней площади Труда, что по-своему символично, нарисовано здание и на нем латинским буквами написано «barak».
Это место, где держали каторжников, которые летом гребли на галерах, а зимой забивали сваи стройки.
Но если уж говорить с точки зрения государственного прагматизма, то уж лучше Петр, чем Ленин или Сталин. Петр как бы сказал нам, что мы — европейцы. В идиотическом столкновении с западным миром состоит глубочайшая ошибка нашей истории. Наоборот, мы должны быть вместе с ними, потому что угрозы вокруг необыкновенно страшны. Особенно учитывая, что к середине века население России уменьшится еще на тридцать миллионов человек...
Начиная с петровской эпохи Россия стала дышать воздухом Запада. Достаточно посмотреть «Санкт-Петербургские ведомости» тех времен: на первой странице какой-то официоз, а все остальное — перепечатки из западных газет о происшествиях, которые там случились, и всевозможных событиях тамошней жизни. Это очень важно, потому что Петр прорвал нашу самоизоляцию. Хочу уточнить: изоляция была реальностью (нельзя представлять, что вокруг России розовые слоны ходили, врагов было много и многие здесь намеревались поживиться), а вот самоизоляция — нелепостью. Прервать ее даже более важно, потому что открытость предполагает в первую очередь внутреннюю свободу — ты сознаешь себя человеком не хуже, чем другие. Именно с петровской эпохи россиянин почувствовал себя полноценным. Он понимал, что в своей стране у него недостатки и все прочее — недаром Радищев, вернувшийся из-за границы, забывший русский язык, став его заново изучать, увидел как бы новыми глазами все, что в России происходило, — и все же подпитка от европейской культуры оказалась чрезвычайно важной.
Петр Первый, собственно говоря, заложил основы современного менталитета русского человека и вообще россиянина, потому что с ним в сознание наших людей вошел ряд общепринятых европейских норм, в том числе и поведения. Поэтому я считаю, что Петр дал мощный пинок и Россия — очень инерционная! — пришла в движение, которое не утихало многие годы, пока не появились его продолжатели — Екатерина II, Александр II...
За все это Петра, пока будет существовать русский язык, пока будут на нем думать, пока будет стоять этот город, люди будут вспоминать. Когда смотришь, как дети садятся на колени шемякинского памятника, так и вспоминается песня Розенбаума, что от рожденья до смерти мы неразумные дети Петровы.
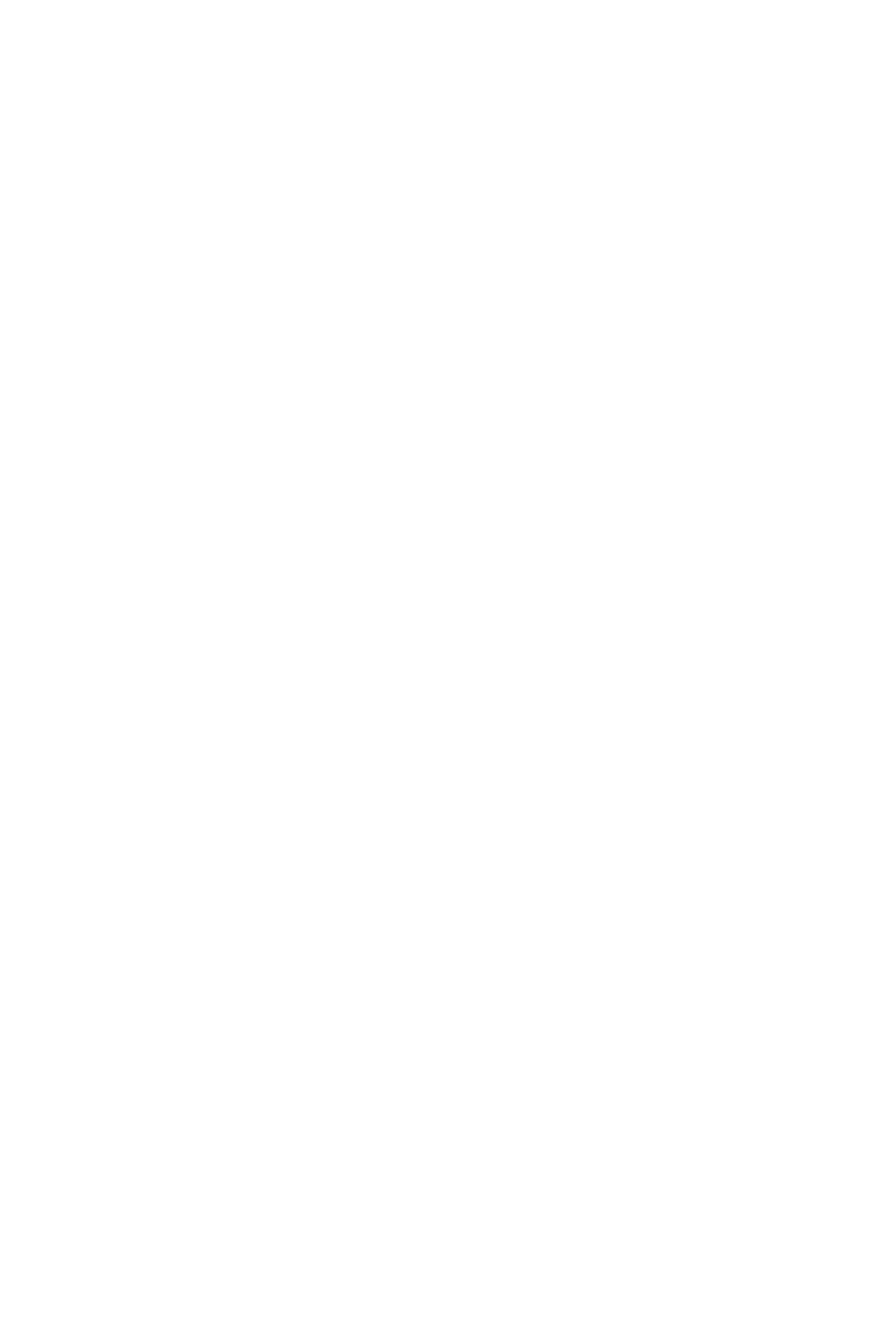
— В Петербурге несколько памятников Петру, установленных в разные времена...
— И они отражают разные его ипостаси. Первым назову монумент Фальконе. Это державный романтик, это Петр, который опередил свое время в представлениях о мире и месте в нем России. Как-то я читал интервью нашего министра по чрезвычайным ситуациям. Его спросили, как он относится к Петру Великому, и тот сказал: как, дескать, можно относиться к государственному деятелю, основавшему новую столицу в таком месте, где жить опасно для существования.
Все правильно: если исходить из прагматических соображений, то на этом месте не надо было основывать город — вон Новгород есть, пожалуйста, развивай его! Но для романтика и мечтателя — а Петр был государственным мечтателем — эта конкретика не имела значения, он осуществлял свою государственную мечту. Наш город находится в южной подзоне тайги, здесь в доэлектрическую эпоху можно было видеть полярное сияние. А он сажал виноград, хлопчатник, липы, сливы, сирень — и она сейчас всюду цветет в городе. С одной стороны, растения приспособились, а с другой — в городе изменился климат. В этом смысле Петр преодолел природу.
ФОТО Дмитрия Соколова
— И они отражают разные его ипостаси. Первым назову монумент Фальконе. Это державный романтик, это Петр, который опередил свое время в представлениях о мире и месте в нем России. Как-то я читал интервью нашего министра по чрезвычайным ситуациям. Его спросили, как он относится к Петру Великому, и тот сказал: как, дескать, можно относиться к государственному деятелю, основавшему новую столицу в таком месте, где жить опасно для существования.
Все правильно: если исходить из прагматических соображений, то на этом месте не надо было основывать город — вон Новгород есть, пожалуйста, развивай его! Но для романтика и мечтателя — а Петр был государственным мечтателем — эта конкретика не имела значения, он осуществлял свою государственную мечту. Наш город находится в южной подзоне тайги, здесь в доэлектрическую эпоху можно было видеть полярное сияние. А он сажал виноград, хлопчатник, липы, сливы, сирень — и она сейчас всюду цветет в городе. С одной стороны, растения приспособились, а с другой — в городе изменился климат. В этом смысле Петр преодолел природу.
ФОТО Дмитрия Соколова
Сложнее было преодолеть природу русского человека. Хотя один из его современников писал после смерти Петра: «Он научил нас понимать, что и мы — люди». То есть внедрил в русское сознание представление о том, что мы не хуже других. В этом и состоит суть просвещенного патриотизма — не другие хуже нас, как думали на Руси до Петра, а мы не хуже других! Это означает, что русским языком можно выражать самые тонкие эмоции, русский человек способен плавать по морю, совершать открытия и подвиги. Над флотом, который основал Петр, смеялись, говорили: какой у России может быть флот! — а сейчас над Украиной так смеются, как тогда над нами. А мы даже успели совершить великие географические открытия. Открыли Антарктиду для мира — в последний момент, когда все уже было открыто! Без Петра это было бы невозможно... И в этом смысле его романтизм был очень важен.
— Второй памятник...
— ...это «Царь-плотник» перед Адмиралтейством работы скульптора Бернштама. Петр Алексеевич был хоть и романтик, но не беспочвенный мечтатель. У него не было иллюзий по поводу того, как реформировать Россию. Побывав в Голландии и Англии — в самых технически развитых, передовых странах, он понял простую истину: институты демократии, парламентаризма, гражданского общества являются основой процветания этих стран. В России же ничего этого не было — ни городов с «магдебургским правом», ни цехового устройства, ни университетов, ни купечества, ни буржуазии — вообще ничего. Единственный рычаг, опираясь на который можно было повернуть страну, это воля просвещенного самодержца с сильной властью!
Я вообще убежден, что, к сожалению, в России стимулом прогресса до сих пор может служить лишь просвещенная воля правителя. Говорю это, разумеется, с сожалением, видя, что начала гражданского общества очень плохо у нас прорастают. Но вернемся к памятнику «Царь-плотник». Петровское стремление переделать русского человека опиралось на идеи прогресса через насилие и учебу. Он всем подавал пример, как нужно учиться, и силком посадил Россию за парты. Но в итоге попадал в замкнутый круг: силою самодержавной власти, как писал еще историк Ключевский, Петр хотел вызвать самодеятельность, инициативу подданных — чтобы раб, оставаясь рабом, действовал как свободный человек. Это квадратура круга, которая неразрешима, заметил Ключевский в конце XIX века, двести лет — а мы можем добавить: и через триста лет! В этом состояла и колоссальная трагедия Петра...
Третий же памятник — перед Михайловским замком работы Растрелли-отца. Он выражает роль империи в становлении нашей страны. Увы, без императорских фондов, императорской марки ничего бы в нашей стране создано не было. Вы посмотрите: университет, театр, Географическое общество, благотворительные учреждения — все носило титул императорских! И только во второй половине XIX века появляется частная инициатива масса свободных начинаний...
А разве сейчас что-то серьезно изменилось? Вот хотя бы Академия наук — да она бы погибла без господдержки, ибо никакого финансирования от спонсоров, богатых людей нету, рассчитывать можно только на государство. Я знаю, как сильно государство вредит людям, как гасит даже самые смелые инициативы бюрократическими препонами и заставляет людей быть сервильными, но другого варианта, кроме господдержки, нет. И основал это государство, которое, в сущности, продолжается до сих пор, с единой внутренней волей, именно Петр.
Я вообще убежден, что, к сожалению, в России стимулом прогресса до сих пор может служить лишь просвещенная воля правителя. Говорю это, разумеется, с сожалением, видя, что начала гражданского общества очень плохо у нас прорастают. Но вернемся к памятнику «Царь-плотник». Петровское стремление переделать русского человека опиралось на идеи прогресса через насилие и учебу. Он всем подавал пример, как нужно учиться, и силком посадил Россию за парты. Но в итоге попадал в замкнутый круг: силою самодержавной власти, как писал еще историк Ключевский, Петр хотел вызвать самодеятельность, инициативу подданных — чтобы раб, оставаясь рабом, действовал как свободный человек. Это квадратура круга, которая неразрешима, заметил Ключевский в конце XIX века, двести лет — а мы можем добавить: и через триста лет! В этом состояла и колоссальная трагедия Петра...
Третий же памятник — перед Михайловским замком работы Растрелли-отца. Он выражает роль империи в становлении нашей страны. Увы, без императорских фондов, императорской марки ничего бы в нашей стране создано не было. Вы посмотрите: университет, театр, Географическое общество, благотворительные учреждения — все носило титул императорских! И только во второй половине XIX века появляется частная инициатива масса свободных начинаний...
А разве сейчас что-то серьезно изменилось? Вот хотя бы Академия наук — да она бы погибла без господдержки, ибо никакого финансирования от спонсоров, богатых людей нету, рассчитывать можно только на государство. Я знаю, как сильно государство вредит людям, как гасит даже самые смелые инициативы бюрократическими препонами и заставляет людей быть сервильными, но другого варианта, кроме господдержки, нет. И основал это государство, которое, в сущности, продолжается до сих пор, с единой внутренней волей, именно Петр.
ФОТО Александра Дроздова
— А памятник работы Михаила Шемякина, уже упомянутый вами?
— В нем очень пронзительно выражено одиночество Петра. Перед нами человек, которого не понимали, не любили, боялись. Феодосий Яновский, глава Синода, который осуществлял все реформы церкви, первый же стал пинать мертвого льва!
Алексей Толстой, который под влиянием Сталина переписывал свои романы и пьесы, в одной редакции «Петра Первого» выбросил гениальную, на уровне Пушкина, ремарку: «Появляется царь — толпа шарахается». Эта ремарка очень выразительна и характерна, потому что Петра боялись, говорили даже — и это сохранилось во многих делах тайной канцелярии: ежели, мол, государь с утра крови не попьет, то ему и хлеб не естся. Шлейф палача и сыноубийцы за ним, конечно, тянулся...
А еще Петру все время изменяли самые близкие люди, начиная со своего союзника польского короля Августа II, которого он братом считал, — тут еще и уважаемый и мудрый гетман Украины Иван Степанович Мазепа, и собутыльник и ближайший приятель Александр Кикин. Да что там, сын бежал за границу — вы представляете, какой это позор: наследник престола! А все остальные молчали, воровали, ждали, когда он умрет.
Алексей Толстой, который под влиянием Сталина переписывал свои романы и пьесы, в одной редакции «Петра Первого» выбросил гениальную, на уровне Пушкина, ремарку: «Появляется царь — толпа шарахается». Эта ремарка очень выразительна и характерна, потому что Петра боялись, говорили даже — и это сохранилось во многих делах тайной канцелярии: ежели, мол, государь с утра крови не попьет, то ему и хлеб не естся. Шлейф палача и сыноубийцы за ним, конечно, тянулся...
А еще Петру все время изменяли самые близкие люди, начиная со своего союзника польского короля Августа II, которого он братом считал, — тут еще и уважаемый и мудрый гетман Украины Иван Степанович Мазепа, и собутыльник и ближайший приятель Александр Кикин. Да что там, сын бежал за границу — вы представляете, какой это позор: наследник престола! А все остальные молчали, воровали, ждали, когда он умрет.
— Но почему же Петр при всех своих личных недостатках (и недостатках созданного им государства, которые во многом сохранились и ныне) вызывает тем не менее нашу симпатию?
— Мне Петр глубоко симпатичен тем, что при всех к нему претензиях он был очень естественен. Он осуществлял свои функции как служение. Как-то он из азовских походов написал, что «служба моя начинается». Он на троне именно служил и подавал всем пример, как это — служить. В камер-фурьерских журналах, где велись поденные описания придворных церемоний и быта царской семьи, есть даже такой интересный термин: «гулял по работам». То есть даже прогулки император совершал не иначе как на стройки, чтобы смотреть, что и как делается. Потому что глаз спускать нельзя с русского человека: он ряд кирпичей кладет правильно, а потом — криво!
А еще он был выдающийся, гениальный человек — это даже по бумагам его хорошо видно. Накануне Полтавы, страшных событий — враг вторгся в глубину страны, русское воинство отступает — он занимается... исправлением русского алфавита. И как вдумчиво! Если мы посмотрим, что он вычеркнул, то мы бы и сами это вычеркнули. Оставил наиболее рациональные, наиболее важные буквы.
И во всем другом очень хорошо видна его необыкновенная натура. И сам учился всегда, и открыт был всему, что связано с прогрессом, развитием, совершенствованием.
А еще он был выдающийся, гениальный человек — это даже по бумагам его хорошо видно. Накануне Полтавы, страшных событий — враг вторгся в глубину страны, русское воинство отступает — он занимается... исправлением русского алфавита. И как вдумчиво! Если мы посмотрим, что он вычеркнул, то мы бы и сами это вычеркнули. Оставил наиболее рациональные, наиболее важные буквы.
И во всем другом очень хорошо видна его необыкновенная натура. И сам учился всегда, и открыт был всему, что связано с прогрессом, развитием, совершенствованием.
— Какие заветы Петра и петровского времени, на ваш взгляд, актуальны сегодня?
— Главный его завет — работайте! Работайте, занимайтесь полезным стране и себе трудом, богатейте честным путем, не жульничая. Петр постоянно страдал от того, что стоит ему отвернуться, как все останавливалось. Оставленный на «хозяйстве» глава Адмиралтейского приказа граф Федор Апраксин пишет как-то ему, что, мол, несколько недель от вас, государь, нет никакого письма — «и все дела становятся и денег ниоткуда не везут».
Петр призывал к тому, чтобы люди проявляли хоть какую-то инициативу, и несказанно обрадовался, когда один из молодых офицеров попросился за границу учиться: за 18 лет, по его собственным словам, это единственный человек, пожелавший уехать учиться по доброй воле...
Петр призывал к тому, чтобы люди проявляли хоть какую-то инициативу, и несказанно обрадовался, когда один из молодых офицеров попросился за границу учиться: за 18 лет, по его собственным словам, это единственный человек, пожелавший уехать учиться по доброй воле...
—А что такое Петр для нашего города, для петербургской архитектуры? Следуем ли мы его заветам в нынешнем развитии города?
— Я вот шел по городу к вам и смотрел, как на углу Марата и Стремянной строится нечто на месте бани. Судя по всему, это будет очередной стеклянный «стакан». Уже само по себе это не в традициях нашего города — не говорю уж о том, что стекло это никогда мыть не будут...
Наш город построен по горизонтальному принципу — это зрелище, пейзаж... А разрушение пейзажа — это нарушение того, что хотел сделать Петр. Я вот шел и думал: еще в 1918 году Добужинский, Бенуа и другие представители интеллигенции протестовали против замысла Временного правительства об устройстве усыпальницы жертв революции на Дворцовой площади. С тех вот времен интеллигенция не перестает бороться! Не надо думать, что она просто консервативна, она — носитель неких ценностей. Интеллигенция — это как в ауле аксакалы, к ней нужно прислушиваться. Но власть последовательно это не делает.
Уходит один чиновник, появляется другой, который не несет ответственность за содеянное с Петербургом его предшественником. И только мы несем ответственность за этот город. А ведь нечто катастрофическое с ним происходит! Хотя я не противник всякого строительства, да и быть противником просто нелепо — есть масса примеров, когда новый дом не выбивается из архитектурного контекста...
Мы переживаем снова, уже в очередной раз, как и во второй половине XIX века, круг (Россия все время движется по кругу) варварского капитализма, который стремится выпятиться: «Смотрите, это я! кто я был вчера? — а сейчас я сижу на двадцатом этаже и могу смотреть, как Пиотровский идет по залам Эрмитажа!». В этом смысле, конечно, вся нашумевшая история с мастерской Славиной очень характерна. А идея строительства газпромовской «кукурузы», которую продвигают под эгидой защиты исторического центра! Дескать, если построим эту башню, то выведем из исторического центра деловую активность и тем самым его спасем ...
Это ведь просто что-то несусветное!
Петр заложил эстетику восприятия нашего города, и наши предшественники это понимали. Когда в середине XVIII столетия сгорела колокольня Петропавловского собора, Екатерине Второй было представлено довольно много проектов — а при ней работали сами понимаете, какие мастера! И она перечеркнула все, оставила трезиниевский вид колокольни и написала: как было раньше, это было лучше всего...
Наш город построен по горизонтальному принципу — это зрелище, пейзаж... А разрушение пейзажа — это нарушение того, что хотел сделать Петр. Я вот шел и думал: еще в 1918 году Добужинский, Бенуа и другие представители интеллигенции протестовали против замысла Временного правительства об устройстве усыпальницы жертв революции на Дворцовой площади. С тех вот времен интеллигенция не перестает бороться! Не надо думать, что она просто консервативна, она — носитель неких ценностей. Интеллигенция — это как в ауле аксакалы, к ней нужно прислушиваться. Но власть последовательно это не делает.
Уходит один чиновник, появляется другой, который не несет ответственность за содеянное с Петербургом его предшественником. И только мы несем ответственность за этот город. А ведь нечто катастрофическое с ним происходит! Хотя я не противник всякого строительства, да и быть противником просто нелепо — есть масса примеров, когда новый дом не выбивается из архитектурного контекста...
Мы переживаем снова, уже в очередной раз, как и во второй половине XIX века, круг (Россия все время движется по кругу) варварского капитализма, который стремится выпятиться: «Смотрите, это я! кто я был вчера? — а сейчас я сижу на двадцатом этаже и могу смотреть, как Пиотровский идет по залам Эрмитажа!». В этом смысле, конечно, вся нашумевшая история с мастерской Славиной очень характерна. А идея строительства газпромовской «кукурузы», которую продвигают под эгидой защиты исторического центра! Дескать, если построим эту башню, то выведем из исторического центра деловую активность и тем самым его спасем ...
Это ведь просто что-то несусветное!
Петр заложил эстетику восприятия нашего города, и наши предшественники это понимали. Когда в середине XVIII столетия сгорела колокольня Петропавловского собора, Екатерине Второй было представлено довольно много проектов — а при ней работали сами понимаете, какие мастера! И она перечеркнула все, оставила трезиниевский вид колокольни и написала: как было раньше, это было лучше всего...
ФОТО Александра Дроздова
— Вы говорите о том, что Петр, по сути, заложил основы современной России. Но при этом рассказываете о людях, которые только и ждали его смерти, дабы покончить с реформами. Как же петровское наследие выжило?
— Во-первых, четверть века, в течение которой правил Петр, по критериям XVIII века, это почти что жизнь человека. Средний возраст людей тогда был около сорока лет. Те, кому брили бороды в начале XVIII века, просили, чтобы эти бороды положили им в гроб, когда они умрут. Но когда момент настал, это пожелание уже казалось нелепостью, все давно ходили без бород...
Русский человек быстро приспособился к нововведениям, которые возникли при Петре, и почувствовал их преимущества — начиная с одежды и кончая системой службы. Той системы, когда простой дворянин мог стать фельдмаршалом благодаря своим способностям — ну кто такой был изначально Суворов? Я уж не говорю, что жить в европейском городе оказалось гораздо удобнее и привлекательнее.
И очень существенно, как я уже сказал, ощущение своей полноценности. Потому что вся допетровская эпоха, если посмотреть, например, дипломатическую историю, отражает комплексы, которые мучили древнерусских людей. Вот, скажем наше посольство требует от Людовика XIV, чтобы он вставал при упоминании имени русского царя или снимал шляпу. Так тот просто порвал отношения с Россией на двадцать лет! А есть описание, как русский посланник в Персии чуть к войне не привел: когда шах подносил ему чашу с напитками, он отхлебывал и плевался! Все время боялись, чтоб не было чести государевой урона. А для Петра все это было не важно, для него было важнее другое: мощь России и ее авторитет. А сам дипломатов принимал где попало и не мыл рук после того, как их верительные грамоты принимал.
А город наш, переживший эпоху, когда мог погибнуть — при Петре II ведь столицу перенесли в Москву, — выжил благодаря тому, что здесь уже скопилась масса инженеров, моряков и других профессионалов, связанных нитями со всем миром, и они продолжали свое дело. Славное дело, ибо Петр плохих мастеров и инженеров на службу не брал. Он хорошо понимал: мало привезти книжки да приборы — нужно людей воспитать. Основать Академию наук, которая была бы университетом и гимназией одновременно. А еще сделать инструментальную мастерскую, заложившую основы наших современных полетов в космос. Он умел использовать способности русского человека и импровизировал с тем, что есть.
Русский человек быстро приспособился к нововведениям, которые возникли при Петре, и почувствовал их преимущества — начиная с одежды и кончая системой службы. Той системы, когда простой дворянин мог стать фельдмаршалом благодаря своим способностям — ну кто такой был изначально Суворов? Я уж не говорю, что жить в европейском городе оказалось гораздо удобнее и привлекательнее.
И очень существенно, как я уже сказал, ощущение своей полноценности. Потому что вся допетровская эпоха, если посмотреть, например, дипломатическую историю, отражает комплексы, которые мучили древнерусских людей. Вот, скажем наше посольство требует от Людовика XIV, чтобы он вставал при упоминании имени русского царя или снимал шляпу. Так тот просто порвал отношения с Россией на двадцать лет! А есть описание, как русский посланник в Персии чуть к войне не привел: когда шах подносил ему чашу с напитками, он отхлебывал и плевался! Все время боялись, чтоб не было чести государевой урона. А для Петра все это было не важно, для него было важнее другое: мощь России и ее авторитет. А сам дипломатов принимал где попало и не мыл рук после того, как их верительные грамоты принимал.
А город наш, переживший эпоху, когда мог погибнуть — при Петре II ведь столицу перенесли в Москву, — выжил благодаря тому, что здесь уже скопилась масса инженеров, моряков и других профессионалов, связанных нитями со всем миром, и они продолжали свое дело. Славное дело, ибо Петр плохих мастеров и инженеров на службу не брал. Он хорошо понимал: мало привезти книжки да приборы — нужно людей воспитать. Основать Академию наук, которая была бы университетом и гимназией одновременно. А еще сделать инструментальную мастерскую, заложившую основы наших современных полетов в космос. Он умел использовать способности русского человека и импровизировал с тем, что есть.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Пришли с победой партизаны. Как ленинградцы встречали героев
6 марта 1944 года, в Ленинград со стороны Пулкова под развернутыми знаменами вошли полки трижды Краснознаменной 5-й Ленинградской партизанской бригады (ЛПБ) во главе с командиром Константином Карицким и комиссаром Иваном Сергуниным. До этого в город вошли другие бригады..
Операция «Возвращение». Как СМЕРШ Ленинградского фронта обманул фельдмаршала Кюхлера
...Шел август 1943 года — года сокрушительных ударов Красной Армии под Сталинградом и на Курской дуге. Наши войска от обороны перешли в наступление. Командующий немецкой группой армий «Север», осаждавших Ленинград, генерал-фельдмаршал Георг Карл Фридрих Вильгельм фон Кюхлер не сомневался, что и его войскам вскоре предстоит испытать на себе растущую мощь русских.