Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Беседовал Игорь лисочкин
«Быть человеком среди людей». Архивное интервью с академиком В.А. Глухих
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Dan Cristian Pădureț on Unsplash
Дата публикации: 06 ноября 2024
В 2009 году академик Василий Андреевич Глухих отправздновал 80-летие. Много лет он возглавлял Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
имени Д. В. Ефремова, а теперь является его научным руководителем.
Василий Андреевич — один из крупнейших в мире специалистов в области разработки инженерно-технических основ управляемого термоядерного синтеза, и его имя широко известно как в российских, так и в зарубежных научных кругах.
Кроме того, он был старым и добрым другом газеты "Санкт-Петербургские ведомости". На ее страницах публиковались и его статьи, и беседы с ним. Юбилей в 2009 году решили использовать как повод для очередной встречи академика с читателями. Причем хотели бы представить его не только как сугубого специалиста, который, по выражению Пруткова, «подобен флюсу», а как личность яркую, самобытную и многогранную, обладающую огромным жизненным опытом. Вести с маститым ученым «разговоры запросто» не только полезно, но и приятно: он доброжелателен, терпим, не предстает оракулом или памятником самому себе и охотно обсуждал даже те точки зрения, которые не вполне соответствовали сложившимся у него представлениям. С Василием Андреевичем ГЛУХИХ беседовал в 2009 году обозреватель Игорь ЛИСОЧКИН.
имени Д. В. Ефремова, а теперь является его научным руководителем.
Василий Андреевич — один из крупнейших в мире специалистов в области разработки инженерно-технических основ управляемого термоядерного синтеза, и его имя широко известно как в российских, так и в зарубежных научных кругах.
Кроме того, он был старым и добрым другом газеты "Санкт-Петербургские ведомости". На ее страницах публиковались и его статьи, и беседы с ним. Юбилей в 2009 году решили использовать как повод для очередной встречи академика с читателями. Причем хотели бы представить его не только как сугубого специалиста, который, по выражению Пруткова, «подобен флюсу», а как личность яркую, самобытную и многогранную, обладающую огромным жизненным опытом. Вести с маститым ученым «разговоры запросто» не только полезно, но и приятно: он доброжелателен, терпим, не предстает оракулом или памятником самому себе и охотно обсуждал даже те точки зрения, которые не вполне соответствовали сложившимся у него представлениям. С Василием Андреевичем ГЛУХИХ беседовал в 2009 году обозреватель Игорь ЛИСОЧКИН.
— Василий Андреевич, каждый из нас вышел из страны своего детства. Если бы вам пришлось рассказывать о своей малой родине, семье, в которой вы родились, и детстве, что бы вы решили поведать?
— Я родился в деревне — называется она Большая Каменная и находится в Курганской области. В семье, члены которой были потомками крестьян-переселенцев, вслед за казаками отправившихся осваивать Сибирь. Была она не богатой, но и не очень бедной — среднего достатка. Нашим богатством были мир и любовь, взаимное уважение и помощь друг другу. Если на протяжении жизни мне приходилось проявлять вместе с трудолюбием и эти качества, то прежде всего потому, что они были заложены еще сызмала.
— Когда у вас проявилась тяга к науке?
— Может быть, во время учебы в средней школе? Ведь на уроках я впервые услышал о знаменитых ученых, исследователях, изобретателях... Сегодня в адрес школы раздается немало замечаний, но я считал и считаю эту нашу систему лучшей в мире. Ее глубочайший демократизм позволяет выявлять и поддерживать настоящие таланты, истинных гениев, без которых развитие науки и техники невозможно... Следующим естественным для меня шагом было поступление в Томский политехнический институт.
— Вспоминаю, с какой исключительной теплотой вы всегда отзывались об альма-матер, и знаю, что со своими институтскими однокашниками вы поддерживаете самые дружеские отношения. В Сосновом Бору, в частности, не раз приходилось быть свидетелем ваших встреч с Анатолием Павловичем Епериным...
— С ним мы дружим очень много лет. Еперин видный ученый,человек подлинно сибирской закалки, один из основных первостроителей Ленинградской атомной электростанции, потом ее и возглавлявший... Говоря о нашей альма-матер, не грех упомянуть и такой факт. По сей день крупнейшие научные учреждения страны направляют заявки на выпускников Томского политехнического института. Томская марка и прежде, и теперь ценится очень высоко.
Но дело не только в подготовке кадров. Российская ядерная индустрия, как и многое другое, тоже «прирастала Сибирью». Здесь строились крупнейшие комбинаты, возникали ведущие научные центры и конструкторские бюро. На сибирских реакторах нарабатывали ядерную взрывчатку для первых советских атомных бомб.
Развитие ядерной науки привело к развитию радиационных технологий, в результате чего была построена первая в мире советская атомная электростанция — небольшой мощности, но ставшая родоначальницей атомной энергетики.
Но дело не только в подготовке кадров. Российская ядерная индустрия, как и многое другое, тоже «прирастала Сибирью». Здесь строились крупнейшие комбинаты, возникали ведущие научные центры и конструкторские бюро. На сибирских реакторах нарабатывали ядерную взрывчатку для первых советских атомных бомб.
Развитие ядерной науки привело к развитию радиационных технологий, в результате чего была построена первая в мире советская атомная электростанция — небольшой мощности, но ставшая родоначальницей атомной энергетики.
— Насколько я знаю, в Ленинград вы попали сразу после окончания института. Считаете это удачей?
— Безусловно. НИИЭФА так и остается в моей трудовой книжке единственным местом работы.
У меня нет оснований сетовать на судьбу. Моя научная биография — слово «карьера» в данной случае мне не представляется уместным — складывалась весьма успешно. В институте я прошел всю служебную лестницу — начав в 1953 году с должности рядового инженера-исследователя и дойдя до генерального директора и научного руководителя. Был удостоен Ленинской и государственных премий. Стал академиком.
У меня нет оснований сетовать на судьбу. Моя научная биография — слово «карьера» в данной случае мне не представляется уместным — складывалась весьма успешно. В институте я прошел всю служебную лестницу — начав в 1953 году с должности рядового инженера-исследователя и дойдя до генерального директора и научного руководителя. Был удостоен Ленинской и государственных премий. Стал академиком.
Фото Dan Meyers on Unsplash
— Как, кстати, вы относитесь к ученым степеням, лауреатским званиям и другим регалиям?
— Если они добыты честным трудом и достигнуты в погоне лишь за научной истиной, то хорошо. Хотя, конечно, в первую очередь я лично стремлюсь разглядеть в каждом чисто человеческие черты. Образно говоря, самое ответственнейшее дело — быть человеком среди людей, а быть человеком в ученом мире — особенно важно.
- Какие черты вам больше всего импонируют?
— Я воспитывался, напомню, в среде сибиряков. Мне нравятся широкие натуры, люди сильные, мужественные, честные, упорные в достижении поставленной цели.
— А какие качества вам кажутся наиболее отвратительными?
— Приспособленчество и угодничество.
— Ваш более чем полувековой трудовой путь, я знаю, не был усыпан розами. Достаточно вспомнить о тех же перестроечных годах, когда многие научные организации были на краю гибели... Однако и тут сосредоточен определенный исторический опыт. Как вы тогда выбирались из бед? Что вас поддерживало, что грело душу в те годы?
— С одной стороны, наступало время великих открытий и свершений. Мировая наука замахнулась на термояд. Ведь если проблемы ядерного синтеза будут решены, человечество разом и навсегда будет избавлено от забот об энергоресурсах. С другой стороны, финансирование нашего института становилось уже таким, что не хватало денег даже на оплату тепла. В это время я не уставал повторять своим соратникам: в школах и институтах у нас были замечательные преподаватели, зачем же они нас учили, неужели мы не справимся со своими бедами? Такая пропаганда может показаться наивной, но, как мне кажется, свои результаты она приносила.
Причем я обращался не только к ученым, но и ко всем сотрудникам. Надо заметить, что институт всегда привлекал к работе высококвалифицированных станочников, слесарей, такелажников, монтажников, сварщиков и представителей других рабочих профессий. И я с огромным уважением отношусь к многим из них. Нередко, когда что-то не получалось в лабораториях, я шел прямо в бригады и говорил: товарищи, у технологов пока то-то и то-то не вытанцовывается, давайте попробуем решить проблему вместе. И вместе у нас получалось! Золотые рабочие руки представляют великую ценность и в науке...
Немецкие коллеги, приезжавшие к нам в те нелегкие времена, с любопытством наблюдали, как мы работаем с современнейшей аппаратурой, включая лазерную, в помещениях, отапливаемых печками-буржуйками. Поэтому прежде всего мы решили строить собственную котельную. Опытных инженеров-сантехников у нас не имелось, но инженерного опыта хватило. Котельная получилась достойной и, что было особенно важно, экономичной.
Однако главным средством сохранения потенциала института стала его реструктуризация. На месте цельного научного организма мы создали куст специализированных научных центров. Каждый из них обладал определенной хозяйственной самостоятельностью, сам искал заказы, заключал договоры и зарабатывал средства для своего существования.
К примеру, большую нишу для работы мы обнаружили на электрифицированных железных дорогах, которые нуждались в замене тяговых подстанций. Мы организовали такое производство, а если учесть уровень института в области электротехники, то нетрудно понять, что мы стали поставлять заказчикам продукцию с такими техническими нормативами, о которых они раньше не могли и мечтать. Перспективным оказалось и производство совместно с германскими фирмами современного медицинского оборудования — особо бы я отметил электронные ускорители, которыми наш институт с тех пор только у нас в России оснастил более 60 медицинских центров.
Интересной была и работа по проектированию и строительству крупных установок для таможенного досмотра целых автопоездов и больших морских контейнеров.
Нам удалось установить связи с различными научными центрами в Европе, Индии и других азиатских странах и даже в США. Наш научный потенциал, высокая квалификация наших сотрудников позволили нам выигрывать многие конкурсы за рубежом.
Причем я обращался не только к ученым, но и ко всем сотрудникам. Надо заметить, что институт всегда привлекал к работе высококвалифицированных станочников, слесарей, такелажников, монтажников, сварщиков и представителей других рабочих профессий. И я с огромным уважением отношусь к многим из них. Нередко, когда что-то не получалось в лабораториях, я шел прямо в бригады и говорил: товарищи, у технологов пока то-то и то-то не вытанцовывается, давайте попробуем решить проблему вместе. И вместе у нас получалось! Золотые рабочие руки представляют великую ценность и в науке...
Немецкие коллеги, приезжавшие к нам в те нелегкие времена, с любопытством наблюдали, как мы работаем с современнейшей аппаратурой, включая лазерную, в помещениях, отапливаемых печками-буржуйками. Поэтому прежде всего мы решили строить собственную котельную. Опытных инженеров-сантехников у нас не имелось, но инженерного опыта хватило. Котельная получилась достойной и, что было особенно важно, экономичной.
Однако главным средством сохранения потенциала института стала его реструктуризация. На месте цельного научного организма мы создали куст специализированных научных центров. Каждый из них обладал определенной хозяйственной самостоятельностью, сам искал заказы, заключал договоры и зарабатывал средства для своего существования.
К примеру, большую нишу для работы мы обнаружили на электрифицированных железных дорогах, которые нуждались в замене тяговых подстанций. Мы организовали такое производство, а если учесть уровень института в области электротехники, то нетрудно понять, что мы стали поставлять заказчикам продукцию с такими техническими нормативами, о которых они раньше не могли и мечтать. Перспективным оказалось и производство совместно с германскими фирмами современного медицинского оборудования — особо бы я отметил электронные ускорители, которыми наш институт с тех пор только у нас в России оснастил более 60 медицинских центров.
Интересной была и работа по проектированию и строительству крупных установок для таможенного досмотра целых автопоездов и больших морских контейнеров.
Нам удалось установить связи с различными научными центрами в Европе, Индии и других азиатских странах и даже в США. Наш научный потенциал, высокая квалификация наших сотрудников позволили нам выигрывать многие конкурсы за рубежом.
Фото Dan Meyers on Unsplash
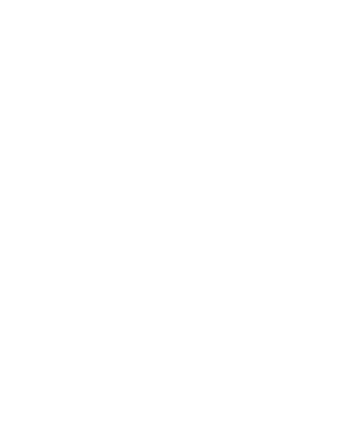
— Повторю вопрос: что согревало вашу душу в самые тяжкие для института перестроечные годы?
— Работа! Другого ответа тут быть не может. Ведь она существует помимо нас и должна быть выполнена. Ну и дружный коллектив, который не дрогнул в трудную минуту.
Вырезка из выпуска "СПб ведомостей" (2009 г.)
— Работа! Другого ответа тут быть не может. Ведь она существует помимо нас и должна быть выполнена. Ну и дружный коллектив, который не дрогнул в трудную минуту.
Вырезка из выпуска "СПб ведомостей" (2009 г.)
— Нет в мире научного центра, который располагал бы вашим опытом по изготовлению мощных ускорителей, в том числе циклотронов и синхрофазотронов. А что касается токамаков, то ваш институт спроектировал и изготовил целых четыре их поколения. Полагаю, не ошибусь, если скажу, что именно это и привело его на роль генерального конструктора в международном проекте ИТЭР, направленном на создание реактора-токамака — прообраза термоядерных электростанций XXI века.Кстати, мне как-то пришлось быть свидетелем спора двух немолодых скептиков, которые ворчали по поводу того, что для чисто русского изобретения придуман иностранный термин...
— В действительности «токамак» самое что ни на есть русское слово, точнее, сокращение нескольких слов: «Тороидальная КАмера с МАгнитными Катушками».
Для термоядерного синтеза, который реально был осуществлен только при взрыве водородной бомбы, необходима температура в миллионы градусов, требуется удержать «капризную плазму». Существуют и уже опубликованы графики, в которых точно отражено, как, совершенствуя конструкцию токамака, мы последовательно приближались к созданию нужных условий. Сейчас физики всего мира убеждены, что термоядерный энергетический блок не может быть ничем иным, как гигантским токамаком.
Для термоядерного синтеза, который реально был осуществлен только при взрыве водородной бомбы, необходима температура в миллионы градусов, требуется удержать «капризную плазму». Существуют и уже опубликованы графики, в которых точно отражено, как, совершенствуя конструкцию токамака, мы последовательно приближались к созданию нужных условий. Сейчас физики всего мира убеждены, что термоядерный энергетический блок не может быть ничем иным, как гигантским токамаком.
— Нам сейчас нет необходимости говорить подробно о проекте ИТЭР— наша газета не раз писала о нем, публиковала рассказы ученых, даже технические рисунки ,чертежи и фотографии. Как известно, в ноябре 2006 года было достигнуто межправительственное соглашение, по которому первый термоядерный реактор начали строить во Франции. Это может вызвать досаду: наибольший интеллектуальный вклад в проект осуществлен Россией, а первые крупные результаты достанутся другой стране. Некоторое время назад чисто гипотетически рассматривался вопрос о строительстве этого реактора неподалеку от нашего города атомщиков — Соснового Бора. Это было бы весьма кстати, поскольку там формируется Кремниевая долина, которая будет нуждаться в исключительно мощных источниках электроэнергии.
— Не стоит завидовать Франции — в проекте ИТЭР нет ни пасынков, ни привилегированных участников. Все вклады, как финансовые, материальные, так и интеллектуальные, просчитываются с предельно высокой точностью. Сейчас Франции предстоит израсходовать гигантские средства и силы на создание строительных технологий, которые, как можно надеяться, впоследствии будут использоваться повсюду. Согласно договору о строительстве реактора ИТЭР, полученные с его помощью экспериментальные результаты являются достоянием всех стран-участниц, даже независимо от вклада в строительство.
В течение нескольких лет участники проекта будут, используя современные средства управления и связи, осуществлять на нем собственные исследования и опыты, и, лишь после того как все до последней мелочи будет обкатано и доведено, начнется строительство аналогичных реакторов в разных странах мира.
В течение нескольких лет участники проекта будут, используя современные средства управления и связи, осуществлять на нем собственные исследования и опыты, и, лишь после того как все до последней мелочи будет обкатано и доведено, начнется строительство аналогичных реакторов в разных странах мира.
Фото Benjamin Voros on Unsplash
— Реализация проекта ИТЭР странным образом затронула судьбу Луны. Утверждают, что на ней существуют огромные запасы гелия-3, первейшего топлива для термоядерных реакторов, и что их уже сегодня необходимо разрабатывать и транспортировать на Землю. Скажите, это из области фантастики или тут присутствует что-то реальное?
— Давайте вспомним, что недавно добыча ископаемых из морских глубин тоже казалась фантастикой. Но сегодня уже многие страны извлекают углеводороды из морского шельфа. На очереди осуществление проектов по подъему рудных конкреций с океанского дна. Технический прогресс довольно быстро делает фантастику реальностью. Поэтому категорически утверждать, что ресурсы Луны никогда не будут использоваться в земной экономике, было бы крайне опрометчиво... К сожалению, параметры плазмы, которые необходимо реализовать в реакторе с использованием гелия-3, сегодня недостижимы. Потребуется огромная теоретическая и экспериментальная работа для их достижения.
— Не удивляйтесь, Василий Андреевич, но я нередко вспоминаю вас, и вот почему. В Праге в журнале «Млады свет» работал мой старый приятель журналист-международник Алеш Бенда. Журнал этот к большим праздникам рассылал постоянным подписчикам красивые цветные плакаты со всякого рода добрыми пожеланиями. Один из них висит у меня дома. Чешский текст гласит: «Много радости от хорошо выполненной работы желает вам «Млады свет»...
— Это пожелание совпадает и с моими убеждениями. В Политехническом университете, где я читаю лекции, регулярно напоминаю студентам — молодые люди, не забывайте, пожалуйста, о том, что существует лишь один вид наслаждения, который превосходит то, что человеку могут дать другие радости жизни: это наслаждение от сознания хорошо выполненной и реализованной научной идеи.
— Но слабо верится, что студенчество вдруг оторвется от прекрасных глаз, чтобы погрузиться в тайны мироздания...
— А в этом и нет необходимости. В любом человеке уйма планов, идей, чувств и эмоций. Дело лишь в том, чтобы все это не конфликтовало, а лишь дополняло друг друга. Высочайшая же мудрость состоит в том, что человеку должно быть свойственно все человеческое...
— Мне известно, что вы никогда не мыслили свою жизнь без спорта. Надеюсь, что в Металлострое, где вы работаете и живете, продолжается традиция «четвергов у Глухих», которые всегда начинались дружеской встречей на волейбольной площадке. А о вашей любви к горным лыжам просто легенды ходят. Скажите, когда вы впервые на них встали?
— Это получилось словно само собой. В юности я начинал с обычных беговых лыж, которые в Сибири есть у всех от мала до велика. Потом естественно перешел на более качественные и лучше управляемые слаломные.
— Ученый мир, как я заметил, вообще тяготеет к спорту.Наверное вы помните что любительский клуб в Юкках долгое время возглавлял в качестве почетного председателя замечательный ученый Иван Иванович Кулагин, заведовавший одной из кафедр Можайки.А когда над трассой раздавалась команда «не курить на горе» , все понимали,что по склону мчится ученый секретарь Института гидротехники Виктор Павлович Пак. В Кавголове на Голифке я неоднократно встречал академика Александрова. Позднее в своем кабине ректора Университета Александр Данилович говорил мне: «Вы думаете, я езжу в Кавголово мышцы укреплять? Ничего подобного. Просто слаломная гора — это вечный праздник. Здесь катаются замечательно красивые парни и девушки. Пообщаешься с ними и чувствуешь себя моложе. Так что я поднимаюсь на Голифк за молодостью».
— Что ж, в горных лыжах есть и такой аспект. Я же люблю их за скорость, за необходимость уверенно владеть собственным телом и за пронзительную свежесть воздуха, когда кислород, кажется, проникает в каждую твою клетку...
— На протяжении многих лет вы возглавляете научно-технический совет при правительстве города. Как там обстоят дела?
— Думаю, что правительству полезно иметь, так сказать, под рукой группу авторитетных, независимых и абсолютно бескорыстных ученых, организаторов производства, экономистов и инженеров. Хотя совет является чисто общественной организацией, его роль в развитии экономики региона может быть, на мой взгляд, довольно значительной. Пока наш кпд не достигает максимума, но мы постоянно работаем над его увеличением.
Редакционная коллегия в 2009 году приняла решение вручить юбиляру медаль М. В. Ломоносова, учрежденную редакцией в качестве почетной награды нашим выдающимся землякам.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
Игра на музыкальном инструменте задействует почти все области мозга одновременно, и вдобавок повышает активность мозолистого тела, выполняющего роль своеобразного моста между полушариями. Образно говоря то, что происходит во время игры у музыканта в голове напоминает фейерверк!
В 2019 году случилось неординарное событие: была открыта первая межзвездная комета. Она пролетела через Солнечную систему и отправилась по своим делам дальше.