«Мертвых языков не бывает». Почему говорят, что искусство слова - главное из искусств?
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Если для среднего гражданина филфак — факультет невест или по крайней мере тех, кто безнадежен в математике, — то это точно не про кафедру общего языкознания. Сюда поступают, например, победители Всероссийских олимпиад по математике-физике-химии, но выбравшие своей профессией лингвистику. Только здесь, да еще в МГУ, есть отделение теории языка (где разбираются в том, как языки устроены); только здесь (и больше нигде в мире) есть отделение балканистики; отделение балтистики — только здесь на всем постсоветском пространстве (не считая, конечно, самих стран Балтии). Здесь готовят штучных специалистов по индоевропеистике, реконструирующих языки «вглубь», до праиндоевропейских времен.
Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ, доктор филологических и доктор биологических наук, заместитель заведующего кафедрой — героиня многих научно-популярных телепередач, а теперь и ведущая ночного интеллект-шоу на «Пятом канале», куда ее, отказавшуюся было по жуткой занятости, заманили, задев за живое: «Все вы ученые снобы; сами стонете, что ТВ — помойка, а как до дела дойдет — все, понимаешь, заняты!».
Татьяна Владимировна занимается областью, которую условно называет «Мозг и язык». Себя же может назвать и психологом, и лингвистом, и нейрофизиологом, не сработает никакой детектор лжи, потому что все это чистая правда.
справлялись и без знаний
о мозге.
Она включает в себя веер самого разного: в этой области работают специалисты по искусственному интеллекту, математики, биологи, лингвисты, психологи. Мы вместе пытаемся понять, как человеческий мозг, то есть самое сложное, что есть во Вселенной, умудряется справляться с другой сложнейшей во Вселенной системой — с человеческим языком. В современной лингвистике не может работать человек, не имеющий знаний из соседних областей.
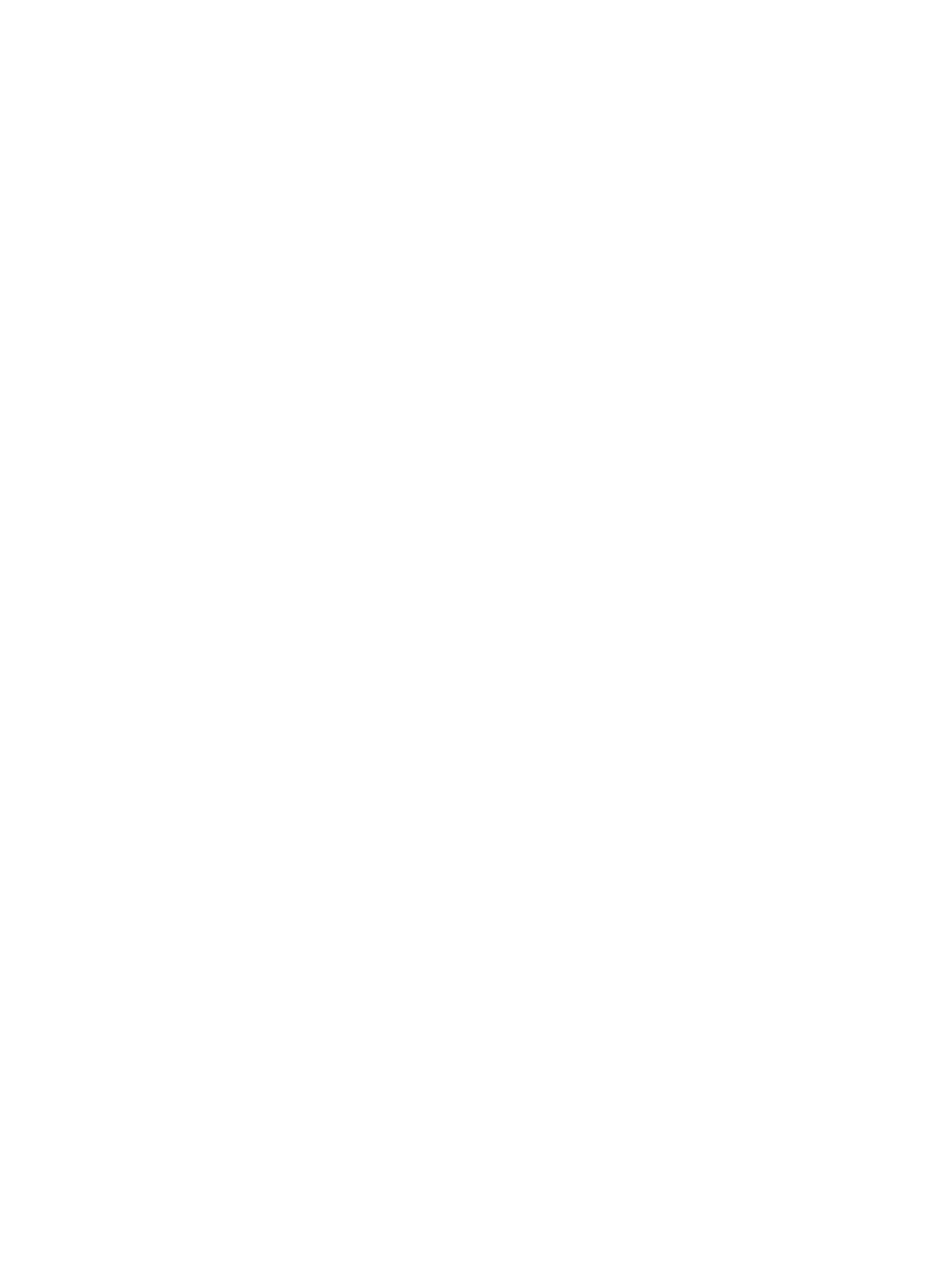
Полушутливый пример. С какой стати слово «чаепитие» считается существительным? Это же процесс, а процессы описывают глаголами. Можно сказать: «чаепитие» — существительное, потому что ведет себя, как существительное, склоняется. Но оппонент возьмет и перечеркнет все: «А с чего вы взяли, что изначально есть именно существительные и глаголы?».
В таком случае остается одно: прийти в клинику, где лечат больных афазией, то есть страдающих расстройствами речи из-за нарушений в мозге. И если в клинике подтвердится, что больные с повреждениями определенной зоны мозга забывают глаголы, а с повреждением другой зоны — существительные, это уже будет доказательством.
Этот пример примитивнее того, с чем мы сталкиваемся на самом деле, но я объясняю суть: клиническая картина будет доказательством того, что это не лингвист придумал считать одни слова глаголами, другие существительными; это мозг так поделил.
Но как лингвисты идут к «соседям», чтобы получить внешние доказательства, так и сильнейшие ученые из нейронауки идут к лингвистам. Только лингвист может объяснить, что у пациента, например, «рухнул словарь», — как бывает при болезни Альцгеймера, когда владение грамматикой остается, но человек не помнит слов. Однако сможет говорить, если слова ему подсказывать.
Татьяна Черниговская
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Дмитрия Соколова
Что мы, собственно, знаем про язык? Мы знаем, что в голове лежат списки чего-то, а также списки правил, с помощью которых мы управляемся с теми, первыми, «списками чего-то». Вопрос — из чего состоят те списки? Это отдельные слова? Или части слов, из которых мы собираем слова? Или целые фразы — пословицы или штампы вроде «добрый день». Или там отдельные звуки?
Фокус в том, что в мозге лежит все сразу: и отдельные слова, и целые фразы, и куски текста «у попа была собака, он ее любил». И как память их вынимает? А ведь мы пока говорим только о «кубиках», о конструировании фраз. Мы пока даже не говорим про смысл.
Да, это чистое знание; сковородки из этого не сделаешь. Но люди хотят знать, кто они такие. Мы же понимаем, что человек — это не тот, который на двух ногах: на двух ногах ходят также петухи, цапли, кенгуру и многие другие симпатичные существа. Но только у нас есть сверхмощный мозг, выполняющий высокого ранга вычислительные процедуры. Только у нас такой язык — я имею в виду язык в узком смысле: он не просто совершеннее, чем язык собак или дельфинов; это вообще другая система, требующая очень мощных вычислительных ресурсов.
Мы чрезвычайно сложные существа и очень мало про себя знаем. И нет никого другого, кто нам бы ответил на вопрос о нас. Тот, который наверху, дал понять: сами-сами; я дал вам инструмент — мозг, вот и раскапывайте, как я устроил этот мир.
Собственно, наука и занимается тем, что пытается понять, как Господь устроил Вселенную. Которая, надо сказать, без нас прекрасно обходится, планеты со своих орбит не сходят. И отдельный вопрос — зачем Вселенной вдруг понадобилось это зеркало, человеческое сознание; и зачем Вселенной нужно, чтобы мы разгадывали ее законы, которые и так действуют. Ответа нет.
Диапазон научных проектов на факультете огромен. Больше 200 научных тем; 81 проект имеет специальное финансирование: то есть это не просто «для души», это заказ организаций — от фондов до Минобразования (например, создание новой линейки учебников по русскому языку). Александр АСИНОВСКИЙ, зам. декана по научной работе, рассказывает о нескольких научных проектах факультета.
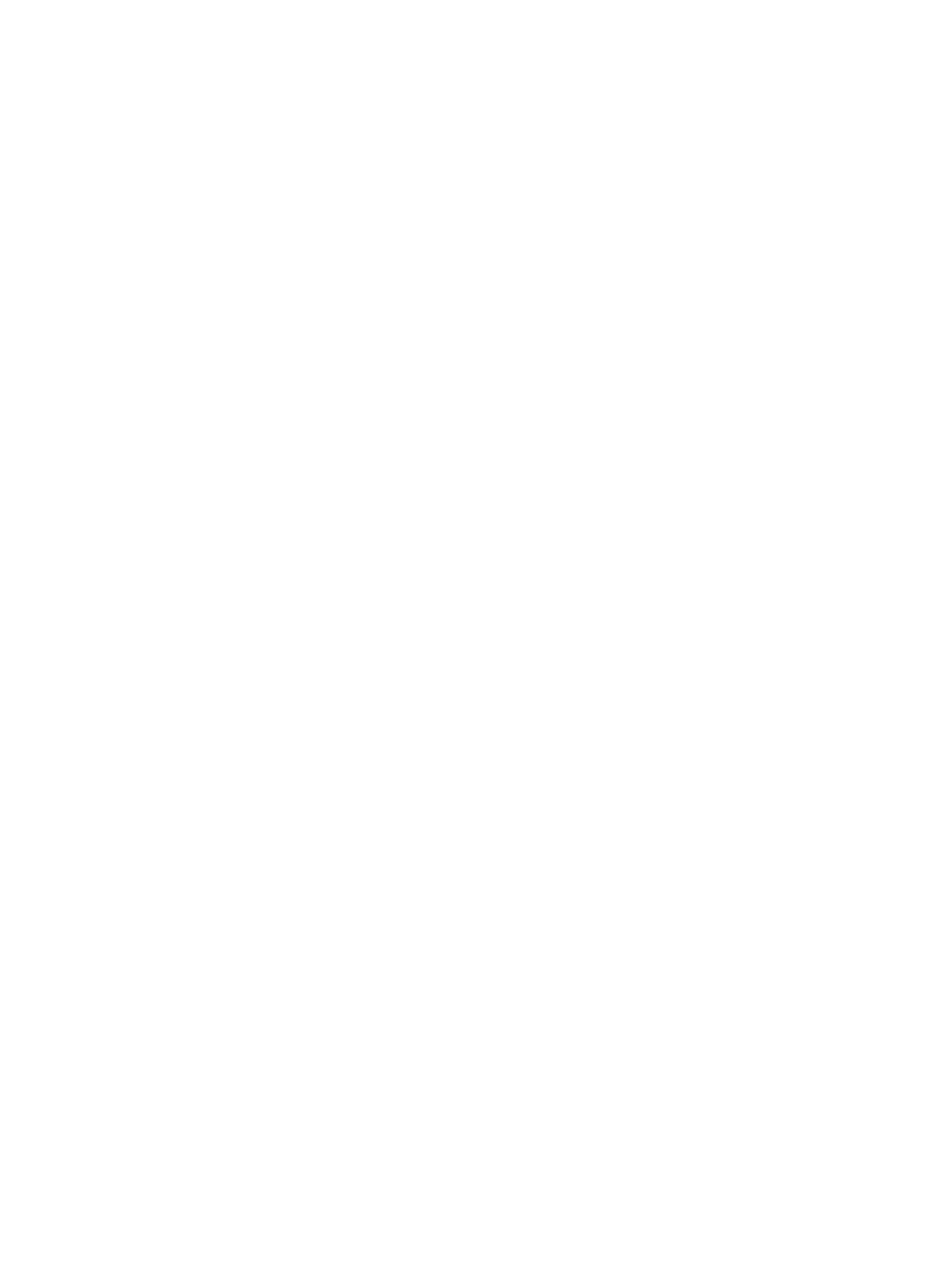
— Имеется в виду Стрелка Васильевского острова. Это должна быть экскурсия в виртуальном пространстве-времени на основе уникального собрания данных по истории и культуре нашего города.
Виртуально поместив себя в определенный век, в определенную точку пространства Санкт-Петербурга, можно будет посмотреть на вид острова, когда там еще не было Биржи, увидеть, как выглядели бы нереализованные проекты Биржи; как ходили первые трамваи в Петербурге (а ходили они перед Стрелкой, по льду). Можно будет увидеть Васильевский остров таким, каким его мечтал обустроить Петр I.
Научная база этого проекта — издаваемая факультетом многотомная энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга», которая содержит богатейший энциклопедический материал, посвященный нашему городу. В ее создании принимали участие более 400 специалистов в различных научных областях.
Александр Асиновский
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Дмитрия Соколова
Работать мы начали девять лет назад, продвигаемся со средней скоростью «книга (размером 120 — 160 печатных листов) в год». И впереди еще работа почти на 10 лет.
— Вы задумывались о том, сколько в сутки говорят мужчины, сколько — женщины? Волонтер надевает маленький диктофон и носит его во включенном состоянии с утра до ночи. Волонтеры — самые разные люди: военнослужащие, студенты, преподаватели Университета, медицинские сестры, «компьютерщики». Понятно, что результаты зависят от конкретного человека и конкретного дня, но в общей сложности мужчина, как оказалось, говорит примерно пять часов в сутки, женщина — примерно восемь часов.
Зачем этот проект нужен? Это формирование так называемого звукового корпуса русского языка. Мы узнаем реальную культуру речи, делаем мониторинг произносительной нормы. Для филолога нет плохих слов, — правда, некоторые деликатные барышни отказывались расшифровывать «диалоги в казарме». Но в целом, если читать «один речевой день» — впечатление от того, как мы реально используем наш родной язык, складывается неблагоприятное. Потому что говорим мы маловыразительно.
— Факультет третий год участвует в работе над этим крупным проектом Министерства образования и науки. Проект направлен на поддержку учебных заведений Российской Федерации, в которых реализуются образовательные программы с углубленным изучением ислама.
Яркий пример такого участия — создание мультимедийного продукта « Каждое слово Корана», который позволяет читать в компьютере текст Корана по-арабски в оригинальной арабской графике, а также с помощью латинской и кириллической транслитерации (передача арабских слов средствами латинского или кириллического алфавита), и русский перевод академика И. Ю. Крачковского. Кроме того каждый аят можно прослушать.
Проект помогает осваивать арабский язык на основе главного текста ислама и вместе с тем — совершенствовать владение русским языком.
Почему появилась исламская проблематика? Потому что мы живем в полиэтническом государстве и межконфессиональные отношения требуют особого внимания. Кстати, начата работа над проектом « Каждое слово Бибилии».
То, что вы видите на фото, — можно сказать, сенсация. Из серии «вновь обретенное сокровище». Сразу видно, что это наше, славянское (кириллица, как-никак), но найдено было среди тибетских рукописей, а именуется и вовсе «Манускрипт Филиппса».
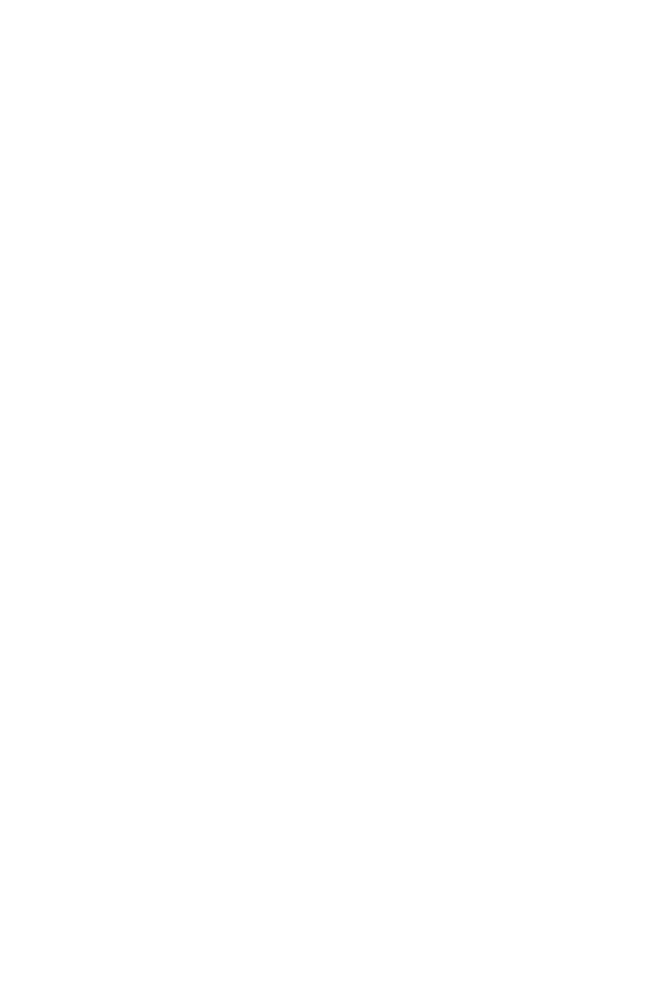
Это первая страница нового списка Новгородской Первой летописи. О том, что в Берлинской библиотеке найден полный свод Новгородской летописи, информагентства прошумели несколько лет назад. Вышли на раритет ученые СПбГУ, и с тех пор сотрудники исторического факультета и факультета филологии и искусств пишут заявки на гранты, чтобы дать Отечеству подробное представление о его, Отечества, истории.
Летопись ценнейшая. Даже не древностью (всего лишь начало XVIII века), а тем, что это список с летописи XV века (скорее всего, утраченной; еще переписчик отмечал, что работает с рукописью ветхой). И — что важнее всего — список полный.
— Вообще летописи — главный наш источник знаний по истории Древней Руси, — рассказывает доктор исторических наук Александр МАЙОРОВ (собственно, он и отслеживал путь манускрипта). — Без летописей мы не знали бы 99% нашей древней истории. Новгородская Первая — летопись всех летописей: она включает в себя Начальный свод, который предшествовал «Повести временных лет», древнейший список Русской Правды (наше древнейшее законодательство), житие Александра Невского и многих русских святых, повесть о битве на Калке, о Батыевом нашествии, о Куликовской битве. Тот список, который нашли мы, — полный. Все остальные — в том числе древнейший Синодальный, который сейчас находится в святая святых, в Государственном историческом музее на Красной площади — все имеют утраты.
Приключения манускрипта сами по себе достойны описания.
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Дмитрия Соколова
В XIX веке очередные представители Меерманов уже не столько коллекционировали, сколько распродавали собранное предками: на торгах татищевская рукопись уже тогда стоила столько, что графу Румянцеву, сыну знаменитого полководца, выдающемуся собирателю, средств на покупку не хватило.
Зато хватило средств у англичанина сэра Томаса Филиппса — коллекционера столь фанатичного, что дочери его остались в девках, поскольку в доме уже и редкостям было тесно, а женихам и вовсе было не протиснуться. Как нередко случается, после смерти коллекционера наследники ринулись распродавать коллекцию. Но тут уже покупателями заявились национальные библиотеки. Рукопись была приобретена Прусской королевской библиотекой. Оптом, в числе тибетских, китайских и индийских манускриптов: в те времена для Запада что Индия, что Китай, что Россия — было все одно, Восток.
К началу второй мировой войны Берлинская библиотека располагала 150 старинными славянскими рукописями. Во время войны они в числе прочего были эвакуированы, но из эвакуации в библиотеку (теперь — Германской Демократической Руспублики) вернулись только четыре документа. Остальных след простыл. Только когда в 1970-х годах была построена национальная библиотека Западной Германии, туда стало стекаться, казалось бы, утраченное: с американских военных баз, из частных собраний, из университетских библиотек. Когда после воссоединения Германии обе библиотеки сверили свои фонды — выяснилось, что из 150 недостает всего одного-двух списков. Новгородская — нашлась.
— В этом списке, например, есть свидетельства о строительстве каменных церквей в середине XV века в Новгороде, — рассказывает Александр Майоров. — А каменное строительство в те времена было исключительным событием. Надо еще точно определить, какая церковь имелась в виду и сохранилась ли она. И таких деталей, рассыпанных по всему списку, немало.
Университетские ученые рукопись «отследили», экспедиции в Берлинскую библиотеку финансировал СПбГУ (саму рукопись библиотека предоставила бесплатно, но копирование на спецтехнике обошлось в несколько тысяч евро). Но ясно, что дело это не университетского, а всероссийского масштаба. Поэтому ищут государственную поддержку.
Профессор, доктор филологических наук Галина Николаевна СКЛЯРЕВСКАЯ — человек, который знает, как россияне сейчас говорят. Галина Николаевна фиксирует нашу сегодняшнюю речь: с группой сотрудников работает над «Нормативным толковым словарем живого русского языка». Словарь должен быть готов к 2014 году, в нем будет около 200 тысяч слов, он строится на базе созданного сотрудниками электронного лексического фонда, насчитывающего на настоящий момент более 18 миллионов словоупотреблений.
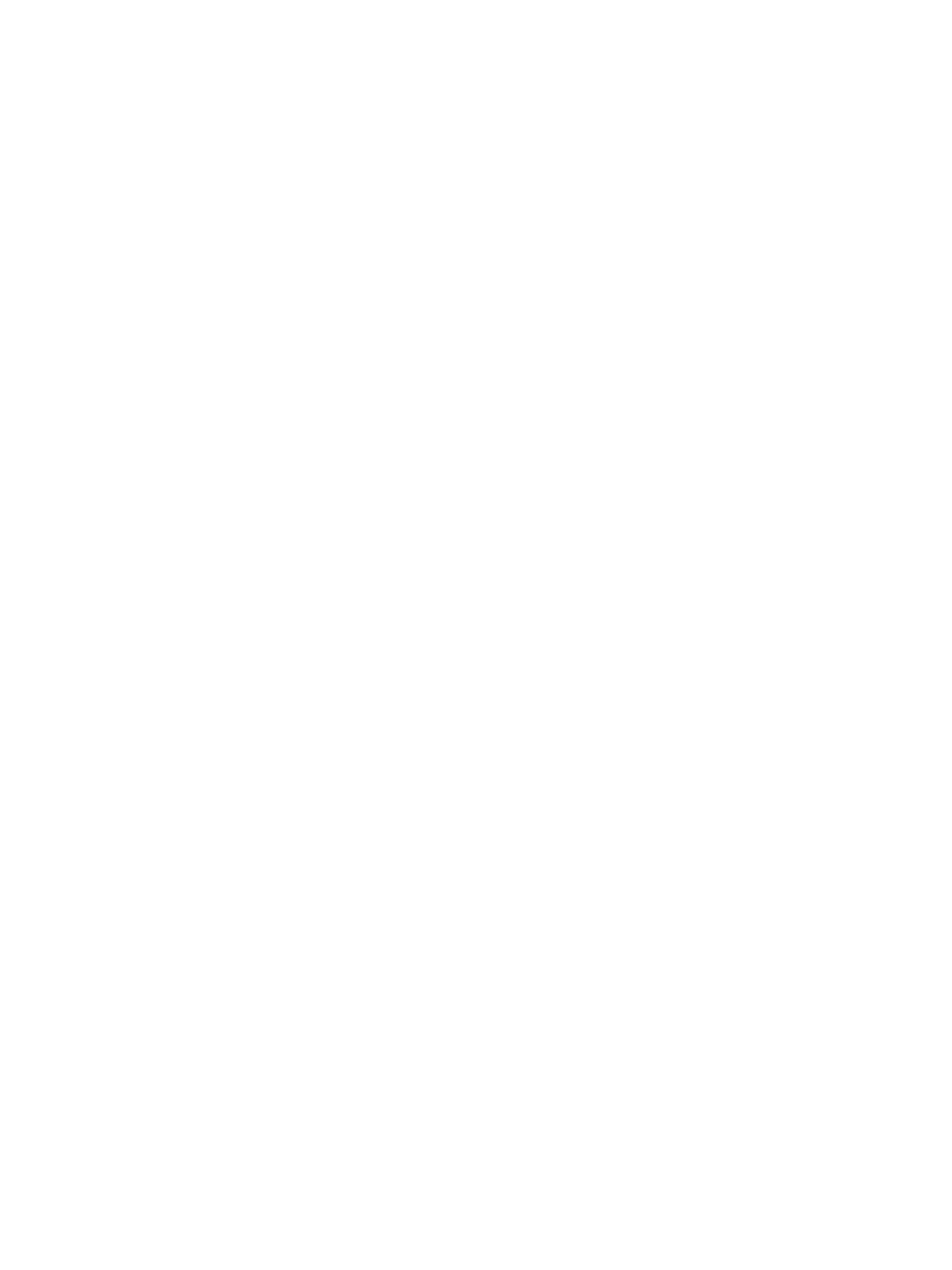
— В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля описан разговорный, в основном областной язык. Под современным живым языком мы понимаем все, что функционирует в языке, — это и разговорная речь, и жаргон, и многочисленные заимствования, и терминология. До сих пор многие считают, что терминология не входит в общий язык; но есть другая точка зрения, и я ее поддерживаю: термины вырвались за пределы своих специальностей, вошли в общий язык, живут по общим языковым законам, многие стали общеизвестными и общеупотребительными: биосфера, ноосфера, иммунодефицит, мануальный, лобби и т. п. Есть даже такой термин — онаучивание языка. Парадоксальным образом наравне с процессом онаучивания происходит процесс противоположный — упрощение языка. Это неизбежно: в процессе эволюции язык никогда не усложняется — он только упрощается; стихия народной разговорной речи просачивается в нормы, меняет их. В начале 1990-х годов коллега из Швеции спрашивала меня, что такое тусовка? Место? Или общение людей? Или что-то еще? Тогда это слово было экзотизмом, пришедшим из жаргона; сейчас оно вполне обычное: киношная тусовка, научная тусовка...
— Есть слова, жизнь которых сложилась каким-то особенно удивительным образом?
— Наш словарь возник не на пустом месте. В пору особенно интенсивных языковых процессов, в последние десятилетия XX — начале XXI вв., мы создали и опубликовали три словаря, отражающие эти языковые изменения, хотя обычно лексикография занимается словами уже устоявшимися.
Галина СКЛЯРЕВСКАЯ
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Дмитрия Соколова
В изменившейся социальной и политической жизни с языковой периферии в активное употребление вернулись целые лексические пласты, слова, многие из которых в словарях советского периода сопровождались пометой «устар.» или комментарием «в доревол. России». А теперь это обычные слова: «акциз», «гильдия», «лицей», «гимназия». Наоборот, очень большое количество советизмов ушли на периферию (соцлагерь, соцреализм, идейно-воспитательный). Они не исчезли: слова не исчезают. Но перестали быть востребованными.
Словарь отражает нашу жизнь: когда-то в словарях были только слова «наркотик», «наркоман», «наркомания». Сейчас у слова «наркотик» — огромное гнездо, больше 40 слов: наркозависимость, наркомафия, наркодилер,наркодоллар, наркобизнес и так далее. Уход на периферию подобных слов означал бы, что проблема в обществе стала менее значима. К несчастью, этого не происходит.
— Считается, что язык заполонила сниженная лексика. Может быть, это только кажется? И кто вообще решает, какие слова «низкие», какие — «повыше»?
— Сниженной лексики действительно не просто стало больше, она буквально хлынула в язык не только из «низкой» речи, но и со страниц газет, популярной беллетристики, с экрана телевизора. Но, видите ли, одно дело — какие слова мы знаем, другое — какие слова из этого багажа мы черпаем для общения. Дмитрий Сергеевич Лихачев знал колоссальное количество жаргонных слов, но не употреблял их никогда.
Мы видим движение сниженной лексики к центру: то, что несколько лет назад было жаргонным словом, стало разговорным; что было разговорным, стало нейтральным. Однако сейчас таких бурных процессов в языке, которые происходили в 1990-е, уже нет. Когда мы начинали в 1990-е годы работу над первым словарем, языковые процессы были настолько интенсивны, что некоторые лингвисты говорили о гибели языка...
— Как это: интенсивность — и при этом гибель?
— С одной стороны, был сильнейший наплыв заимствований и даже говорили о «языковой интервенции». С другой — хлынул жаргон. При беглом взгляде действительно создавалось ощущение если не гибели, то разрушительных процессов.
Но я придерживалась точки зрения, что те бурные процессы как раз содействовали тому, что язык выживал.
Дело в том, что заимствования очень быстро адаптируются и принимают облик русского слова, начинают склоняться, спрягаться. Например, «спонсорский» — это уже русское слово, образованное по русской модели. Слова, не принявшие русской системы, просто ушли.
— Вот уж что в языке живет и функционирует, так это мат.
— Когда я начинала работать над этим словарем, было оговорено: до мата, до обсценной лексики (то есть табуированной, непроизносимой) — мы не доходим. Многие коллеги, особенно зарубежные, ставили это мне в вину: мат есть в языке, это очень живое — так почему в словаре живого русского языка он не будет представлен? Некоторое время я не могла привести достойного аргумента, но, когда стали выходить специальные словари матерных слов, я уже могла сказать: мат — объект специальных словарей.
Мы останавливаемся на границе жаргона, который у нас в словаре представлен очень широко. Конечно, есть специальные словари жаргона, но важная языковая проблема состоит в том, что разговорная речь в значительной степени состоит из слов, которые вышли из жаргонов. Когда в 1992 году в стране вышел первый словарь уголовного жаргона, я с изумлением обнаружила, что 340 слов из него я знаю. Мы уже и понятия не имеем, что выражения «качать права», «на халяву», «не светит», «вешать лапшу на уши», «до лампочки» пришли из уголовного мира. Но они в некоторой степени нейтрализовались, снялась мощная некогда экспрессия.
— Если бы матерное слово лишилось своей энергии — оно бы могло стать пусть сниженным, но «нормальным»?
— Теоретически да. Но дело в том, что если жаргон может растерять свою энергию, то мат никогда экспрессии не лишится. Это для нас мат мощен и экспрессивен, но есть мир, где «матом разговаривают», где это нормальная речь. Этот мир живет по другим законам, это другая территория. Там нет понятий «люблю», «забочусь», «нежный», «помогу». В этом мире в центре не то, что составляет ядро языка у нас («глаз», «рука», «ходить», «лес»), там в центре — обозначения насилия, убийства и орудия убийства, физиологические процессы в мельчайших деталях — обозначения которых в обычном языке отсутствуют, потому что в них нет потребности.
ни одно табуированное слово не стало нейтральным.
— Я бы не была так категорична. Язык часто подчиняется закону аналогии, и тут может сработать аналогия со словами «моет», «просит», «варит», «дарит» и так далее. Кстати, в прошлом как раз было ударение варИт, дарИт. Так что я как раз допускаю, что «звОнит» может стать нормой.
А что касается логики, то язык не всегда ей следует. Например, логично предположить, что когда-то в нашем языке появилось слово «зонт», а от него образовалось уменьшительное «зонтик» (как от «стола» — «столик», как бантик, тортик и т. п.). Ничего подобного: сначала был «зонтик», от голландского Zondek, «защита от солнца», а потом, вопреки всякой логике, появилось слово «зонт».
Язык — это развивающаяся самодостаточная система, он сам себя регулирует.
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Дмитрия Соколова
Притом что в научной среде до сих пор дискутируют — есть ли такая наука — семиотика, Илья УТЕХИН, директор программы «Семиотика и теория коммуникации» факультета, склонен полагать, что семиотика, самыми яркими представителями которой являются Юрий Лотман и Умберто Эко, скорее, комплекс научных методов, отталкивающихся от понятий о знаках, языках и коммуникации.
Преподавание семиотики сегодня связано с исследовательской деятельностью, в которую, как надеется Илья Утехин, все в большей мере будут включаться студенты и аспиранты.
— Например, в лаборатории когнитивных исследований мы изучаем, как происходит коммуникация в ходе совместной деятельности — притом что люди друг друга не могут видеть. Допустим, внук должен объяснить по телефону бабушке, как ей послать файл по электронной почте. И бабушка понятия не имеет, как включается компьютер. Успех коммуникации и вообще всего этого предприятия зависит от того, насколько внук сможет увидеть ситуацию глазами бабушки.
Такие исследования имеют вполне практическое значение. Пример — ситуация, в которой каждый хоть раз оказывался: растерянно стоишь перед банкоматом или ему подобной штуковиной, и вы оба не понимаете, чего друг от друга хотите. Штуковина не понимает, почему вы яростно тыкаете во все кнопки; вы ни слова не понимаете в той инструкции, которая появляется у штуковины на экране. Кто из вас двоих чувствует себя дураком — понятно. Так вот моделирование успешного общения между вами и техникой, разработка «правильного» интерфейса (на основе тех самых лабораторных исследований) избавит вас от вышеописанной неприятной ситуации.
последние астрономические открытия примерно так же изменили картину мира, как в свое время коперниканская революция. Вдруг оказалось, что центры галактик — это черные дыры, что вокруг других звезд обращаются планеты, что почти все, из чего состоят наши тела, — это остатки вспышек сверхновых звезд; что все видимое во Вселенной — лишь малая ее часть...