Взгляд на Вселенную из Петергофа. Мир в 2009 году отмечал Год астрономии
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
А тем временем последние астрономические открытия примерно так же изменили картину мира, как в свое время коперниканская революция. Вдруг оказалось, что центры галактик — это черные дыры, что вокруг других звезд обращаются планеты, что почти все, из чего состоят наши тела, — это остатки вспышек сверхновых звезд; что все видимое во Вселенной — лишь малая ее часть... С вопросами наивными (можно ли побыстрее связаться с инопланетянами) и насущными (угрожает ли Земле астероид Апофис) мы отправились в СПбГУ — в Астрономический институт им. В. В.Соболева при математико-механическом факультете. Отсюда вышли многие ученые мирового масштаба (двое, В. А. Амбарцумян и А. А. Боярчук, были президентами Международного астрономического союза) и как минимум один знаковый фантаст — Борис Стругацкий.
Если все вышеперечисленное не повод для визита, то вот повод официальный:
по решению ООН, мир в 2009 году отмечал Год астрономии.
В 1880 году Государственный совет «не встретил препятствий <...> к допущению <...> постройки астрономической обсерватории для С.-Петербургского университета»; это решение Александр II «высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить». С 1881 года учреждение именовали Обсерваторией вплоть до 1992 года, когда оно было преобразовано в институт.
Университетская обсерватория довольно оригинальна. Во-первых, располагается не на возвышенности (в отличие от большинства других). Во-вторых, не является сугубо научным учреждением (здесь ведется и учебная работа, и значительная часть астрономов, работающих на территории бывшего Союза, учились именно тут). В-третьих, парадокс: здесь никогда не было больших телескопов, хотя это первое, чем гордится любая обсерватория.
Впрочем, директор института Вениамин Владимирович ВИТЯЗЕВ утверждает: «У нас никогда не было больших телескопов, но всегда были большие головы».
«Большие головы», работавшие в обсерватории, — это академик Виктор Амбарцумян, первым в СССР основавший кафедру астрофизики; академик Виктор Соболев, создавший ленинградскую школу теоретической астрофизики — школу мирового значения; профессор Всеволод Шаронов, в 1960-е годы доказавший, что на Луне нет пыли столь мощной, чтобы помешала посадить космический корабль (американцы подтвердили это несколькими годами позже).
Если вы в Астрономическом институте гость, вам, скорее всего, покажут две достопримечательности. Первая — на здании соседнего физфака купленный несколько лет назад телескоп, не очень большой, но современный. Он проводит мониторинг блазаров — мощных источников электромагнитного излучения в ядрах некоторых галактик.
Вторая достопримечательность — библиотека: уютная и слегка «под старину»; там можно прикоснуться к телескопу XVIII века и подержать метеорит. Если, конечно, поднимете.
У входа в библиотеку — стенды с выдержками из «летописи» обсерватории/института, которую ведет заведующий кафедрой астрофизики Всеволод Владимирович Иванов. В летописи помимо достижений зафиксированы и такие детали: в 1886 году основатель обсерватории С. Глазенап, знаменитый профессор,просил у ректора разрешения вступить в брак. Такова была власть главы университета.
Библиотека позволяет себе роскошь, недоступную большинству других вузовских библиотек, — закупает дорогие иностранные журналы и монографии и, что вовсе немыслимо, держит их в свободном доступе. Потому что читателям доверяет.
КАРТИНА МИРА
Заведующий кафедрой астрофизики Всеволод Владимирович ИВАНОВ:
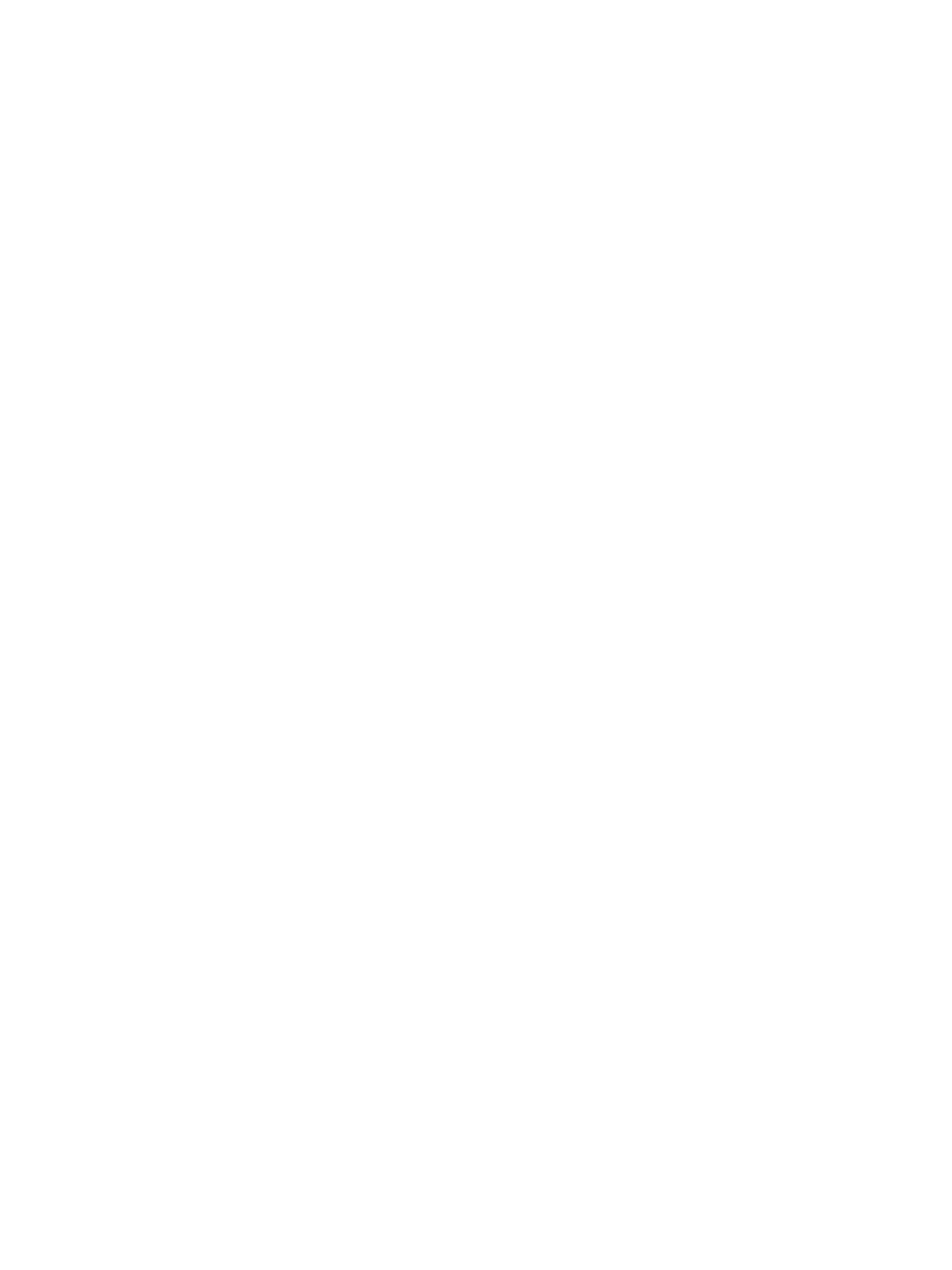
Теперь мы знаем, что звезды в своих недрах синтезировали все те атомы, из которых состоят наши тела (кроме водорода): и углерод, эту основу сложных молекул, из которых мы состоим; и кислород, которым мы дышим... Не будь звезд, жизнь на Земле не могла бы возникнуть!
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Александра Дроздова
Понимание того, что возраст Вселенной 14 миллиардов лет, впервые появилось несколько десятилетий назад, а сейчас это твердо установлено. 14 миллиардов лет — это только втрое больше возраста Земли. Вселенная еще молодая! В ней сто миллиардов галактик (уже поколением наших нынешних студентов они все будут занесены в каталоги).
В каждой галактике, как и в нашей, — по сто миллиардов звезд (столько же или даже меньше, чем деревьев в сибирской тайге, и уж гораздо меньше, чем комаров на Земле). Но и звезд во всей Вселенной меньше, чем атомов в капле воды: звезд — 10 в 22-й степени, то есть одна сотая септиллиона, а атомов в капле воды — 10 в 24-й степени, септиллион.
Так что вполне может оказаться, что во всей Вселенной Солнце — единственная звезда, около которой есть жизнь.
* * *
В 2002 году заведующий лабораторией наблюдательной астрофизики Валерий Михайлович ЛАРИОНОВ прославился вместе с коллегой из Пулковской обсерватории Аркадием Архаровым. Впервые в истории советской-российской науки наши ученые открыли сверхновую звезду. И какую — видимую только в инфракрасных лучах и не видимую в оптическом диапазоне.
Там ведутся наблюдения, в частности и активных ядер галактик —в центре многих галактик существуют черные дыры, мощнейшие источники энергии во Вселенной.
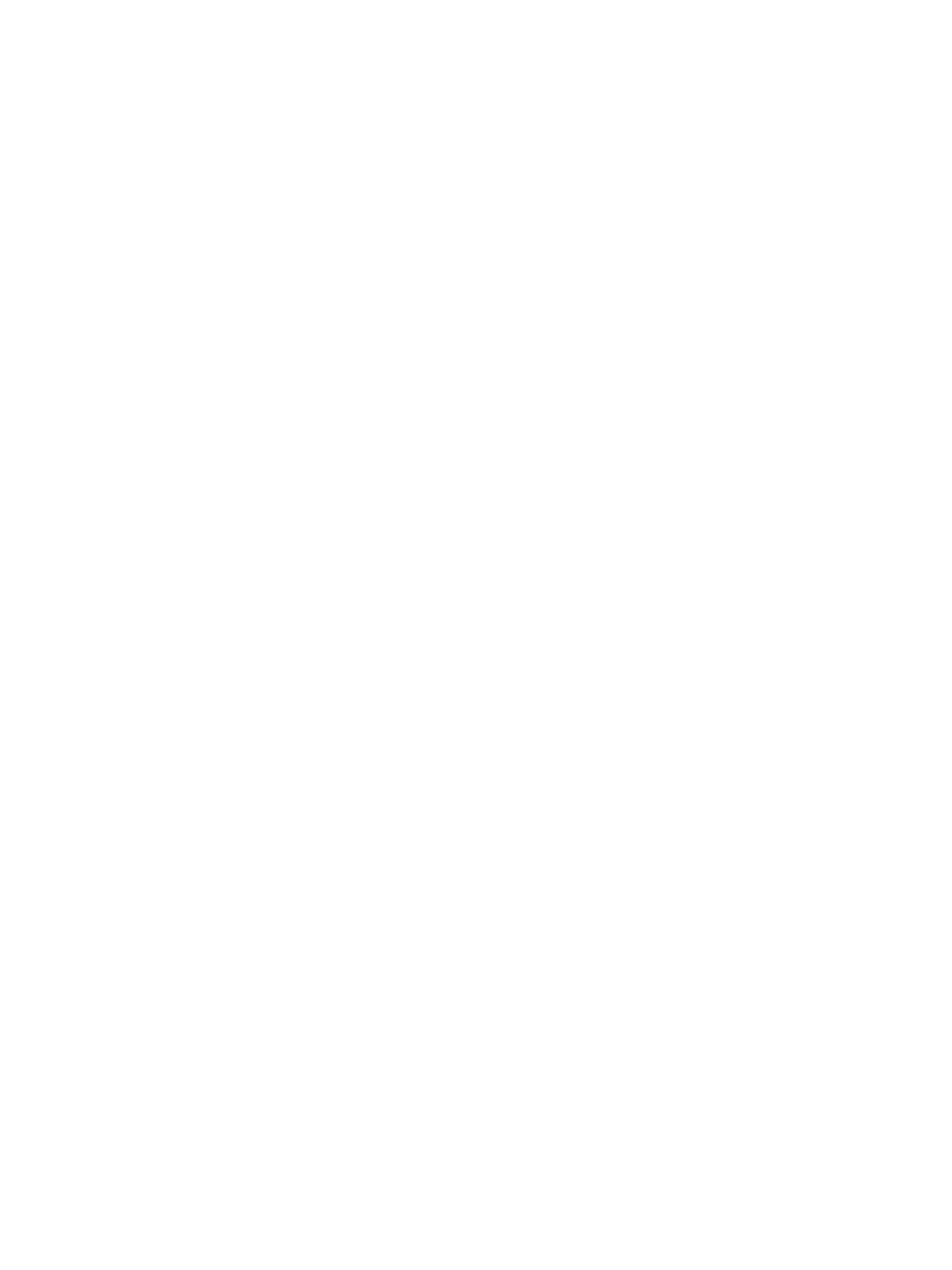
Наблюдая один из таких блазаров, находящийся от нас на расстоянии примерно 1 млрд световых лет, удалось получить результаты, которые ученые охарактеризовали как «очень интересные».
— Я с пулковским коллегой находился в Италии, а наши студенты и аспиранты вели наблюдения на нашем институтском телескопе, — говоритВалерий Ларионов. — Удалось обнаружить, что и в оптическом диапазоне, и в диапазоне инфракрасном излучение меняется, но изменения в оптическом происходят раньше. То есть излучающие области в окрестностях черной дыры немножко разнесены по расстоянию. Мы получили столь высокое временное разрешение, что, если провести аналогию с пространственным разрешением, это все равно, как если бы мы с Земли четко увидели жало комара, находящегося на Марсе.
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Александра Дроздова
* * *
Заведующий кафедрой небесной механики Константин Владиславович ХОЛШЕВНИКОВ: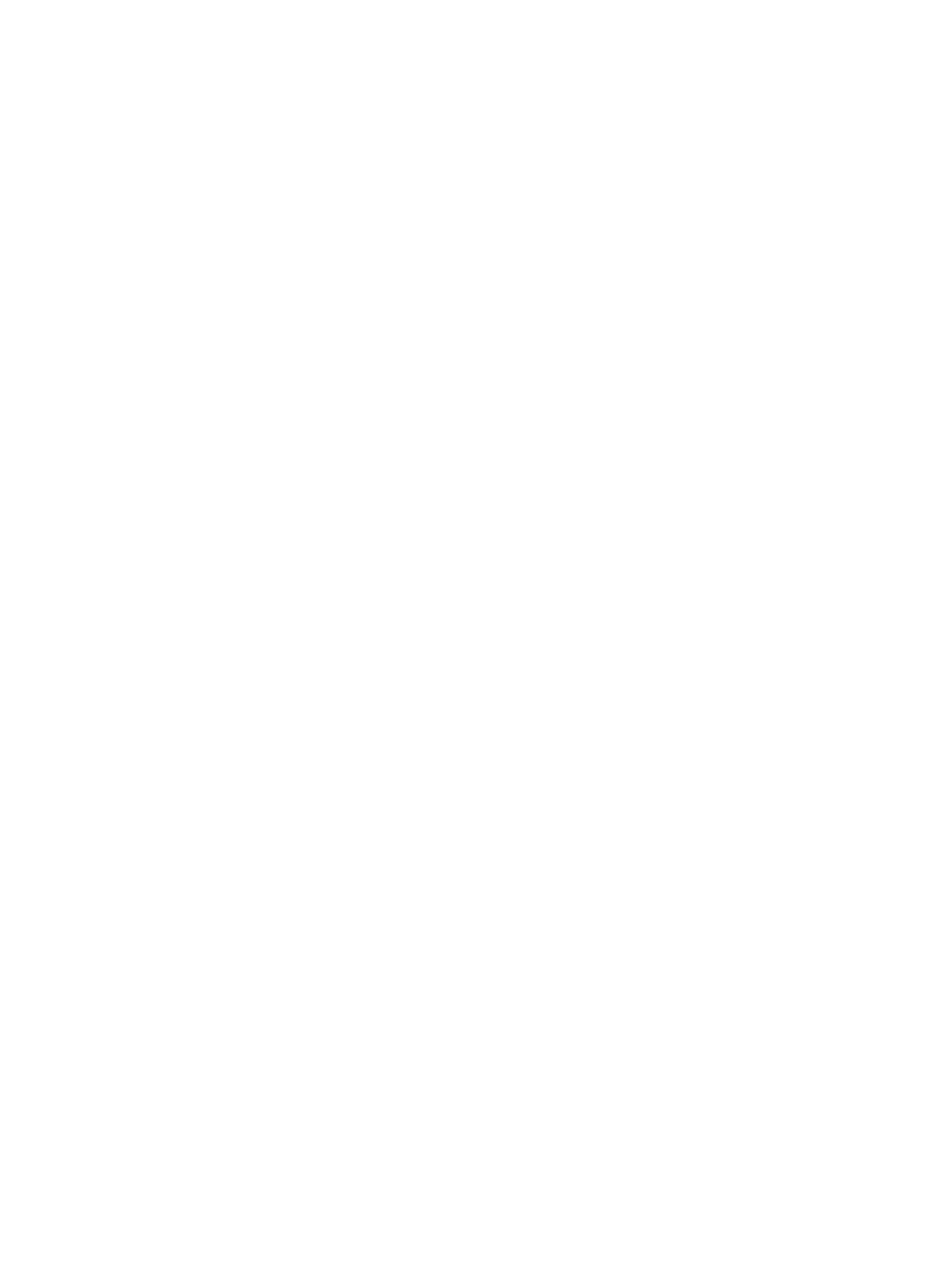
Потом выяснилось, что спутники вроде Луны есть и у других планет. Оказалось, что планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс — это одно, а Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун — это совершенно другие тела. Потому что у первых есть твердый грунт, а Юпитер или Сатурн — большие газовые шары (хотя не исключено, что внутри Юпитера под жутким давлением есть что-то похожее на «землю»). Открыли астероиды, поняли природу комет...
Такого уровня открытия происходили раз в 50 лет и даже реже. А сейчас они сыплются как из рога изобилия.
Смотрите: на периферии Солнечной системы, за Нептуном, обнаружили пояс Койпера — большое количество тел, похожих на ядра комет. Мы плохо знаем их природу, их очень много, и мы видим только самые крупные — они слишком далеко от нас. Даже самыми мощными телескопами их смогли открыть только в самом конце XX века, хотя существование таких тел предсказал голландский астроном Койпер — в его честь «пояс» и назвали.
Потом оказалось, что Плутон, считавшийся планетой, — всего лишь одно из тел пояса Койпера, и не самое большое. И Плутон был дисквалифицирован: стал называться карликовой планетой. Зато астероид Цереру, наоборот, повысили в ранге: она считалась малой планетой, а стала карликовой. Да-да, карликовая — это больше, чем малая. И все это случилось недавно, в 2006 году!
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Александра Дроздова
Малых планет, астероидов, известно уже около 400 тысяч — на самом деле их много миллионов. Мы достоверно знаем, что когда-нибудь на Землю нацелится большой астероид, и надо быть готовыми, чтобы не повторить, согласно одной весомой теории, судьбу динозавров.
Чем астероид больше, тем меньше вероятность, что он на нас упадет — просто потому, что больших астероидов меньше. Астероиды размером 10 км мы знаем практически все в Солнечной системе. Тела размером с километр мы знаем отнюдь не все, но больше половины. А из стометровых знаем лишь небольшую часть.
Астероид Апофис, который в 2029 году приблизится к Земле, считается опасным. Он небольшой, всего 250 метров, но его столкновение с Землей чревато катастрофой для территории размером с Бельгию, то есть это было бы многократно мощнее тунгусского явления.
К счастью, в первый раз Апофис нас минует. Я надеюсь дожить до этого момента и простым глазом наблюдать событие. В следующий раз Апофис появится в 2036 году, но его орбиту мы будем знать только после первого визита. Если в 2036-м астероид будет угрожать Земле, изменить его траекторию будет возможно, хотя и трудно.
Hire on Unsplash
Планеты вроде Земли (а она по массе в 300 раз меньше Юпитера) мы пока «разглядеть» не можем, но сейчас запущен специальный космический аппарат, чтобы открывать планеты именно этого типа. По идее, если есть «юпитеры», то и «земли» должны быть.
Искать жизнь в нашей Галактике интересно. Но учитывая то, что ее «протяженность» 100 тысяч световых лет... Ближние окрестности Солнца — в пределах 100 световых лет — мы, по-моему, исследовали так же хорошо, как окрестности Петербурга. Если бы там была цивилизация, мы бы об этом знали.
Есть ли возможность связаться с другими цивилизациями «побыстрее»? Законы природы очень многое нам разрешают, но многое и запрещают.
Например, закон сохранения энергии запрещает скатерть-самобранку. В том мире, который мы знаем, максимальная скорость распространения сигнала — скорость света. Поэтому «быстрее» не получится. Правда, неизвестны еще свойства темной материи, и, может быть, одно из этих свойств — скорость большая, чем скорость света. Хотя большинство физиков считают, что это невозможно.
* * *
Девушки в астрономии — явление в мире довольно распространенное (как говорят, на барышнях мировая астрономия держится —«они старательные, способные и довольствуются нашей нищенской зарплатой»).
Сотрудница Астрономического института Ольга МЕРКУЛОВА защитила диссертацию всего через три месяца после аспирантуры. В школе она интересовалась математикой и физикой; поступила на матмех на астрономическое отделение. Осталась в науке.
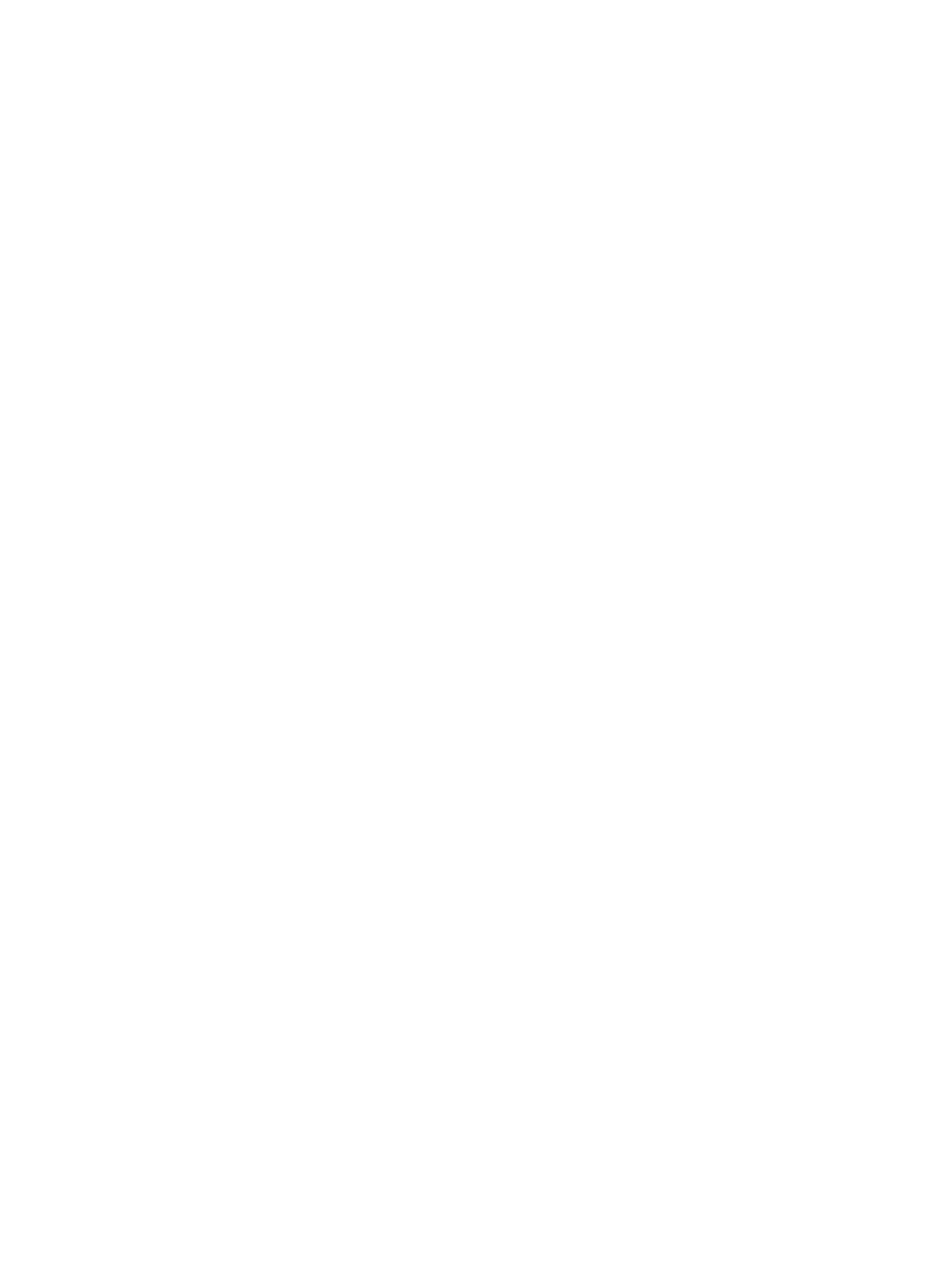
У Ольги на счету уже есть одна победа: вместе с коллегами по лаборатории она обнаружила галактику не с газовыми кольцами, как обычно, а со звездным кольцом. В мире это только второй случай обнаружения звездного кольца.
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Александра Дроздова
В Астрономическом институте вам скажут: мы, земляне, на самом деле живем на Солнце. Потому что мы в солнечной короне. Она простирается до нас.
В лаборатории физики Солнца и радиоастрономии наблюдают то, от чего зависят вопросы жизни и смерти.
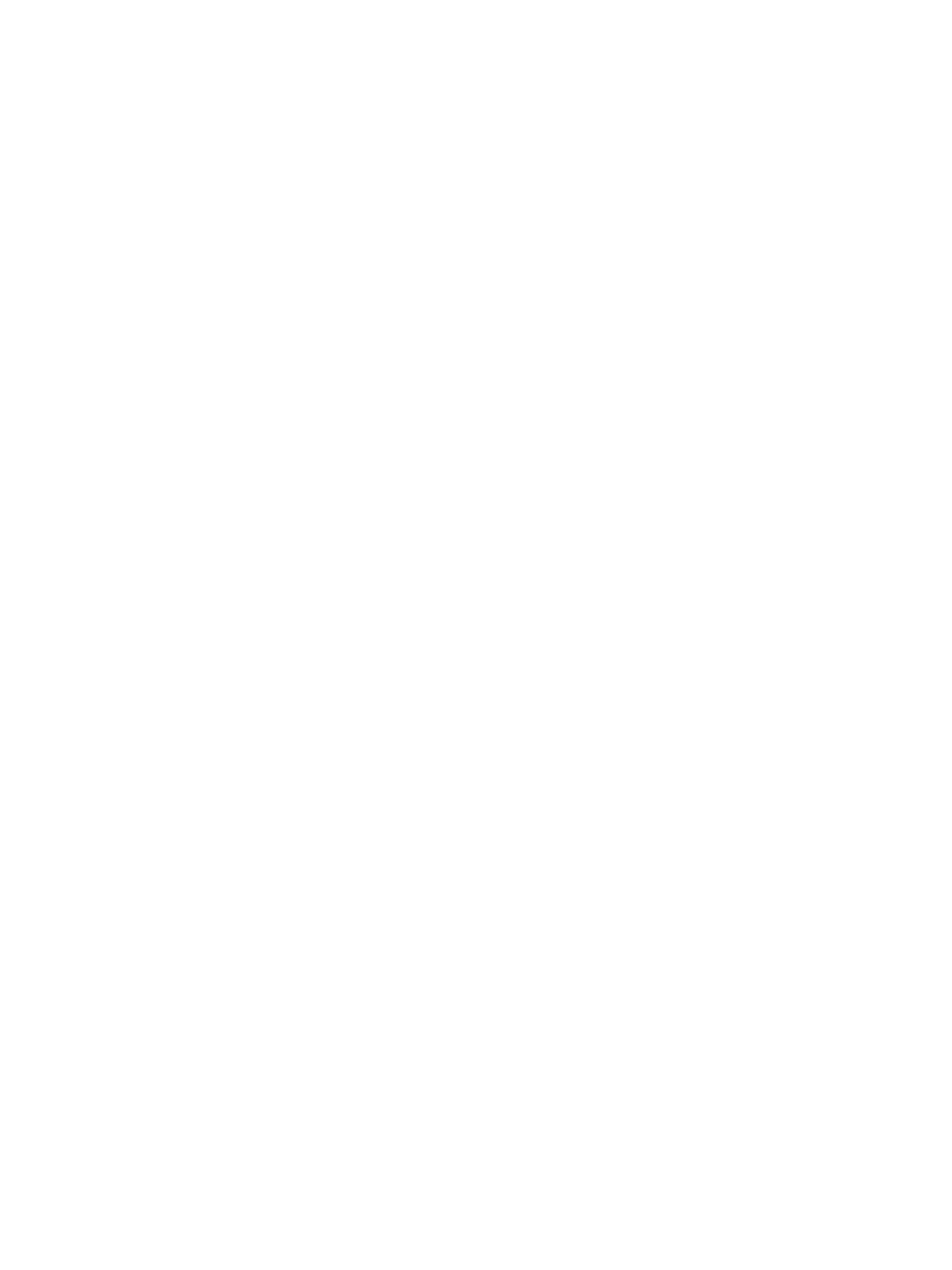
Зимой наблюдения в лаборатории не ведутся: Солнце низкое, к тому же его загораживают деревья. Здесь занимаются чисто научными задачами, фундаментальными, а не прикладными, тем более что телескоп лаборатории мал и Солнце в нем — всего лишь точка.
Зато в компьютере Солнце во всех видах: спокойное (на самом деле и оно бурлит — магнитные поля, фронты ударных волн) и активное (это не просто «бурлит сильнее», это другие процессы; протуберанцы выстреливают на сотню тысяч километров).
Сейчас Солнце спокойно, что несколько удивляет астрономов: периоды активности чередуются каждые 10 — 11 лет, минимум уже был пройден и активность должна бы возрастать, но пока все тихо.
В память о том, что когда-то его, аспиранта, брали в экспедиции, Валерий Георгиевич старается традицию продолжать, но сейчас разводит руками: похоже, участвовать этим летом в экспедиции в Китай на очередное солнечное затмение не доведется.
Вырезка из газеты "СПб ведомости" (2009 г.)
Фото Александра Дроздова
...В 1947 году, через два года после окончания войны, советское правительство не поскупилось: отправило 40 ученых со всего Союза в экспедицию в Бразилию наблюдать солнечное затмение. Среди этих 40 пассажиров «специально направленного» парохода «Грибоедов» был молодой Виталий Гинзбург, будущий Нобелевский лауреат.
Прибыли, высадились, установили аппаратуру (добавим: сама подготовка к таким экспедициям занимает месяцы)... Прямо в день затмения пошел дождь. Которого не было неделями до и неделями после. Невезение кошмарное. Но радиоастрономические наблюдения, проведенные этой экспедицией под дождем, привели к ряду фундаментальных открытий.
-Вениамин Владимирович, ученые института ездят в Штаты, Японию, Францию, Италию, Германию — кажется, востребованность налицо...
— По сути дела, зарубежные институты трудоустраивают наши головы. Но это уровень трудоустройства отдельных людей, а надо говорить о трудоустройстве страны. Есть мощнейшая организация — Южно-Европейская обсерватория. Это консорциум нескольких европейских стран; свои телескопы они содержат в основном в Южном полушарии. Россия, войдя в число участников проекта, получила бы доступ к этой богатейшей по своим возможностям технике.
Стоимость вступительного взноса — 130 миллионов евро и потом ежегодно 13 млн евро. Но Россия не выделила эти очень и очень небольшие для нее средства, хотя для страны участие в проекте стало бы самым простым решением сегодняшней проблемы — лечения дистрофии, в которой российская астрономия пребывает последние годы: наше телескопостроение практически перестало существовать и нет уже высококлассных специалистов в этой области, а чтобы их вырастить, нужны годы и огромные вложения.
Есть мнение, что участие в таком проекте чревато риском попасть в зависимость от чужих технологий и, дескать, надо развиваться самим. Может, такие опасения и оправданны, но ведь мы пока все равно не развиваемся. Мы медленно затухаем.
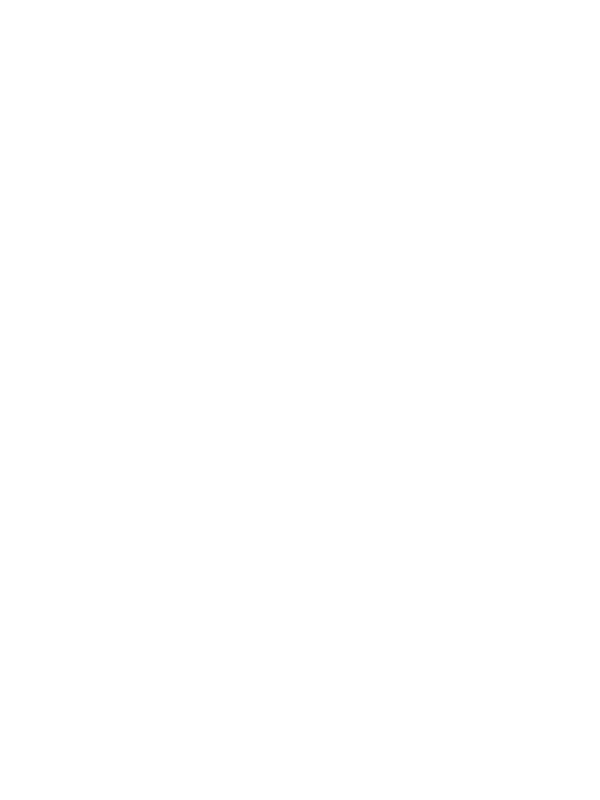
Фото Александра Дроздова
— Это потому, что мы не только научное, но и учебное заведение, мы работаем со студентами. В Пулковской обсерватории, например, почти нет молодых.
Это огромная проблема: за последние 15 — 20 лет из науки вымыло молодежь. Студенты эффективно работают до 25 лет, защищают диссертацию и либо уезжают за границу и работают там по специальности, становясь зачастую лидирующими учеными, либо уходят в бизнес и превращаются в офисный планктон. С таким-то образованием и мозгами!
В Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ), который дает гранты (не очень большие, но достаточные для поддержки исследований), создали график: число грантов соотнесли с возрастом получателей. Лет двадцать назад график показывал, что немалое число грантов получали и молодежь, и люди среднего поколения. Сейчас график выглядит так: студенческий показатель остается прежним из-за постоянного притока молодежи. А «столбик» среднего поколения сдвинулся на 20 лет вправо, потому что прежние получатели грантов стали на столько же старше. В середине же графика почти пусто! Между студенчеством и 70-летними пропасть. Практически нет 40-летних ученых. Вчерашние 20-летние перекочевали бы в категорию 40-летних грантополучателей, если бы была достойная зарплата и оборудование, но этого нет. И они перекочевали в офисы, где есть и то и другое.
Совершенно очевидно, что студенческий «столбик» грантополучателей существует только до тех пор, пока есть столбик 70-летних. Пока есть кому учить.
У Натальи СОТНИКОВОЙ, доцента кафедры астрофизики, есть фото, иллюстрирующее, по ее мнению, уровень понимания важности астрономии в обществе.
Фото не наше — американское. Довольно старое, начала XX века. Будто прогуливаясь, идут, оживленно беседуя, двое мужчин. Один из них, в безупречном котелке и с тростью, — Джордж Хейл, знаменитый американский астроном, стоявший у истоков обсерватории «Маунт-Вилсон», где было сделано множество открытий, в том числе и открытия других галактик. Второй, в изысканном светлом костюме и роскошной летней шляпе, — бизнесмен Эндрю Карнеги, распорядитель многомиллионного фонда, из которого были получены средства на обсерваторию.
— Я не могу представить себе, чтобы кто-то из наших ученых мог бы так же, на равных, беседовать с кем-нибудь из наших олигархов или точнее — чтобы кто-то из наших олигархов признавал наших ученых равными себе, — говорит Наталья Сотникова.
...Позже Хейл с присущей ему непринужденностью вел переговоры с мультимиллионером Джоном Хукером и получил в итоге средства на создание телескопа с зеркалом диаметром
2,5 м для уже построенной обсерватории «Маунт-Вилсон» — самого большого телескопа того времени. Впоследствии Хейл сумел убедить распорядителей фонда Рокфеллера в необходимости строительства уже 5-метрового телескопа, который был установлен на обсерватории «Маунт-Паломар».
У Карнеги, Хукера, Рокфеллера не возникало сомнений, что деньги они дают на дело. Вряд ли они нуждались в астрономическом ликбезе.
— На Западе астрономия едва ли не ключевой предмет в школе, именно как предмет, который формирует мировоззрение, — говорит Наталья Яковлевна. — И когда американской астрономии нужно выбить деньги на большие проекты, ученые пишут красивые заявки в конгресс или сенат, и каждый из заседающих прекрасно понимает, на что пойдут средства и как это важно.
— Знанием астрономии определяется уровень развития человечества, — соглашается Валерий Нагнибеда. — В нашей стране образование сейчас построено таким образом, что основная масса людей в астрономии мало что смыслит. И вместо того чтобы обсуждать, что происходило с нашей Вселенной за 14 миллиардов лет, им рассказывают про шесть дней творения.
— В католической стране Италии есть широко известная Ватиканская обсерватория, — рассказывает Валерий Ларионов. — Когда я начал рассказывать итальянским школьникам о том, как взрывается сверхновая, они подхватили: «А-а-а, это после стадии обмена масс!»... То есть в католической стране при полной свободе узнать и о креационистской концепции школьники владеют астрономическим аппаратом, которым у нас владеет не каждый первокурсник.
Интересно, сколько времени потребуется директору какой-нибудь российской обсерватории, чтобы объяснить госчиновнику, зачем вкладываться в астрономию, если у госчиновника в школе даже не было такого предмета?
...Два доходчивых примера того, зачем нужна астрономия и как она перекликается с жизнью.
Первый. В свое время президенту Кеннеди подарили фотографию: он на лужайке перед Белым домом играет с сыном в мяч. Фото было сделано из космоса. Техника, созданная для науки, поменяла всю военную структуру: стало понятно, что «сверху видно все, ты так и знай».
Пример второй. Когда СССР и США заключили договор о прекращении атомных испытаний, обе страны запустили спутники для контроля за соблюдением договоренностей. Однажды американцы засекли всплески жесткого излучения — гамма-излучения — и предположили, что Советы не держат слово... В конце концов оказалось, что излучение было не земного происхождения — это было абсолютно новое для нас явление в космосе, которое оставалось необъясненным еще несколько десятилетий, пока ученые не поняли, что это, скорее всего, вспышки очень мощных сверхновых. Сейчас такие вспышки фиксируют по нескольку раз на дню. Получается, из-за военных игр было сделано фундаментальное открытие в астрономии.
Выступая в Москве на крупной конференции, посвященной Году астрономии, профессор Холшевников отметил три причины, по которым астрономия нужна.
Первая: астрономия ценна сама по себе — как ценна, например, «Лунная соната» Бетховена.
Второе: астрономия важна для других наук — она дает физикам, химикам, математикам огромное пространство для размышлений.
Третье: непосредственная практическая польза — мы пользуемся астрономией, когда смотрим на часы, говорим по мобильному телефону или смотрим спутниковое ТВ. И прочее, и прочее.
«Наконец, — добавляет профессор, — когда-нибудь Земле действительно будет угрожать астероид. И кто спасет человечество? Мы. Астрономы».
К сведению
* Хотя астрономы работают с далекими от Земли объектами, они банально зависят от погоды. Ученый может получить институтский телескоп в свое распоряжение на неделю и всю неделю ждать, когда закончится дождь. Поэтому характерна Интернет-перекличка между различными обсерваториями мира: «У тебя есть небо?» — в смысле, у тебя ясно?
В 2019 году случилось неординарное событие: была открыта первая межзвездная комета. Она пролетела через Солнечную систему и отправилась по своим делам дальше.