Используя наш сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для Вас и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.
Да
Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ
Совесть: бесполезное свойство души?
Продовольственная комиссия Военного совета Ленинградского фронта.
Фото Jackson Simmer on Unsplash
Дата публикации: 05 февраля 2025
В 2009 году в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов прошли IX Международные научные чтения. В них приняли участие свыше тысячи человек, в том числе около ста ведущих ученых-гуманитариев, прибывающих со всего мира. Таково современное развитие начинаний академика Д. С. Лихачева, инициировавшего первое проведение данного общественно-научного форума в 1993 году.
С тех пор университет проводит чтения совместно с Российской Академией наук, Российской академией образования, в последние годы — при поддержке Министерства иностранных дел РФ и на средства специального гранта президента страны.
С тех пор университет проводит чтения совместно с Российской Академией наук, Российской академией образования, в последние годы — при поддержке Министерства иностранных дел РФ и на средства специального гранта президента страны.
Тематическая направленность Лихачевских чтений, по традиции, формируется на основе предложений Конгресса петербургской интеллигенции — организации, учрежденной в апреле 1999 года по предложению Д. С. Лихачева и Д. А.Гранина. Ее основателями наряду с Д. С. Лихачевым и Д. А. Граниным стали тогда также Ж. И. Алферов, А. С. Запесоцкий, А. П. Петров, М. Б. Пиотровский и К. Ю. Лавров.
Данный текст — эксклюзивная возможность получить представление о проблематике, волнующей в настоящий момент элиту отечественной интеллигенции.
Участники:
ГРАНИН Даниил Александрович — писатель, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Санкт-Петербурга, соучредитель Конгресса петербургской интеллигенции, почетный доктор СПбГуП;
ГУСЕЙНОВ Абдусалам Абдулкеримович - академик Российской Академии наук, директор Института философии РАН, заведующий кафедрой этики философского факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор, почетный доктор СПбГУП;
ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич — академик Российской академии образования,
член Президиума РАО, ректор СПбГУП, доктор культурологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный артист РФ, соучредитель Конгресса петербургской интеллигенции;
КАПИЦА Сергей Петрович — главный научный сотрудник Института физических проблем им. П. Л. Капицы, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель председателя Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН;
РЕЗНИК Генри Маркович — президент Адвокатской палаты г. Москвы, заведующий кафедрой адвокатуры Академического правового университета при Институте государства и права РАН, член Общественной палаты РФ, кандидат юридических наук, заслуженный
юрист РФ.
Данный текст — эксклюзивная возможность получить представление о проблематике, волнующей в настоящий момент элиту отечественной интеллигенции.
Участники:
ГРАНИН Даниил Александрович — писатель, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Санкт-Петербурга, соучредитель Конгресса петербургской интеллигенции, почетный доктор СПбГуП;
ГУСЕЙНОВ Абдусалам Абдулкеримович - академик Российской Академии наук, директор Института философии РАН, заведующий кафедрой этики философского факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, доктор философских наук, профессор, почетный доктор СПбГУП;
ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич — академик Российской академии образования,
член Президиума РАО, ректор СПбГУП, доктор культурологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный артист РФ, соучредитель Конгресса петербургской интеллигенции;
КАПИЦА Сергей Петрович — главный научный сотрудник Института физических проблем им. П. Л. Капицы, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель председателя Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН;
РЕЗНИК Генри Маркович — президент Адвокатской палаты г. Москвы, заведующий кафедрой адвокатуры Академического правового университета при Институте государства и права РАН, член Общественной палаты РФ, кандидат юридических наук, заслуженный
юрист РФ.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Провести сегодняшнюю встречу было идеей Даниила Александровича Гранина. Именно он предложил собраться в таком составе и поговорить о проблемах совести, морали, нравственности. Я выполнил организаторскую функцию и пригласил гостей в Санкт-Петербург.
Д. А. ГРАНИН:
— Сегодня мы столкнулись с такой жизнью, непривычной для нас, где ценности стали совершенно другими. В советской жизни были ценности, которые казались нам неоспоримыми. Строительство небывалого справедливого социалистического общества, к примеру. Ради такой цели стоило жить! Вся эта самобытность и масштабность сегодня исчезла. Нет крестьянства, нет рабочего класса с его трудовыми подвигами... Все подвергнуто сомнению и выкорчевано — вместе с корнями нашей жизни. Корни исчезли, корни! Плюс то, что происходит сегодня в образовании — школьном, а затем и институтском. Это ЕГЭ, компьютерная система обучения. Она настолько обезличена, что напрочь лишает нас ощущения идентичности или самоидентичности российской жизни. Все — плоды глобализма, все становится принадлежностью европейской или всемирной системы.
Я, как человек литературы, это особенно болезненно ощущаю, потому что в школах сокращается изучение литературы. А ведь она на протяжении более ста лет создавала нашу русскую интеллигенцию. Я вижу, как гаснет интерес к поэзии. Прекратились поэтические вечера, телевидение этим не занимается совершенно, уменьшается потребление художественной литературы вообще, а особенно русской. Эта цифровая, двоичная система — «да— нет», «плюс — минус» — не позволяет наслаждаться ни литературным языком, ни историей России, ни поэзией. Они становятся сегодня собственностью компьютерного обучения или экзаменов, которые уже не играют особенной роли ни для школьников, ни для студентов, потому что все стало ad marginem, все побочные системы. А что же остается от того, что составляло любовь к России, любовь к своей стране?
То, что происходит в мире, можно представить себе каким-то нашествием варваров на цивилизацию. Каждая страна, каждая нация будет встречать или уже встречает это по-своему. Но когда я смотрю на то, что делается в Европе, я все-таки не вижу там такого упадка духа, который существует у нас. Пример Германии, которая сумела за краткий исторический срок перевернуть сознание народа. То есть существуют какие-то огромные внутренние потенциальные силы, которые проснулись, реализовались и преображают жизнь целых стран. А Россия? Почему в упадке она?
— Провести сегодняшнюю встречу было идеей Даниила Александровича Гранина. Именно он предложил собраться в таком составе и поговорить о проблемах совести, морали, нравственности. Я выполнил организаторскую функцию и пригласил гостей в Санкт-Петербург.
Д. А. ГРАНИН:
— Сегодня мы столкнулись с такой жизнью, непривычной для нас, где ценности стали совершенно другими. В советской жизни были ценности, которые казались нам неоспоримыми. Строительство небывалого справедливого социалистического общества, к примеру. Ради такой цели стоило жить! Вся эта самобытность и масштабность сегодня исчезла. Нет крестьянства, нет рабочего класса с его трудовыми подвигами... Все подвергнуто сомнению и выкорчевано — вместе с корнями нашей жизни. Корни исчезли, корни! Плюс то, что происходит сегодня в образовании — школьном, а затем и институтском. Это ЕГЭ, компьютерная система обучения. Она настолько обезличена, что напрочь лишает нас ощущения идентичности или самоидентичности российской жизни. Все — плоды глобализма, все становится принадлежностью европейской или всемирной системы.
Я, как человек литературы, это особенно болезненно ощущаю, потому что в школах сокращается изучение литературы. А ведь она на протяжении более ста лет создавала нашу русскую интеллигенцию. Я вижу, как гаснет интерес к поэзии. Прекратились поэтические вечера, телевидение этим не занимается совершенно, уменьшается потребление художественной литературы вообще, а особенно русской. Эта цифровая, двоичная система — «да— нет», «плюс — минус» — не позволяет наслаждаться ни литературным языком, ни историей России, ни поэзией. Они становятся сегодня собственностью компьютерного обучения или экзаменов, которые уже не играют особенной роли ни для школьников, ни для студентов, потому что все стало ad marginem, все побочные системы. А что же остается от того, что составляло любовь к России, любовь к своей стране?
То, что происходит в мире, можно представить себе каким-то нашествием варваров на цивилизацию. Каждая страна, каждая нация будет встречать или уже встречает это по-своему. Но когда я смотрю на то, что делается в Европе, я все-таки не вижу там такого упадка духа, который существует у нас. Пример Германии, которая сумела за краткий исторический срок перевернуть сознание народа. То есть существуют какие-то огромные внутренние потенциальные силы, которые проснулись, реализовались и преображают жизнь целых стран. А Россия? Почему в упадке она?
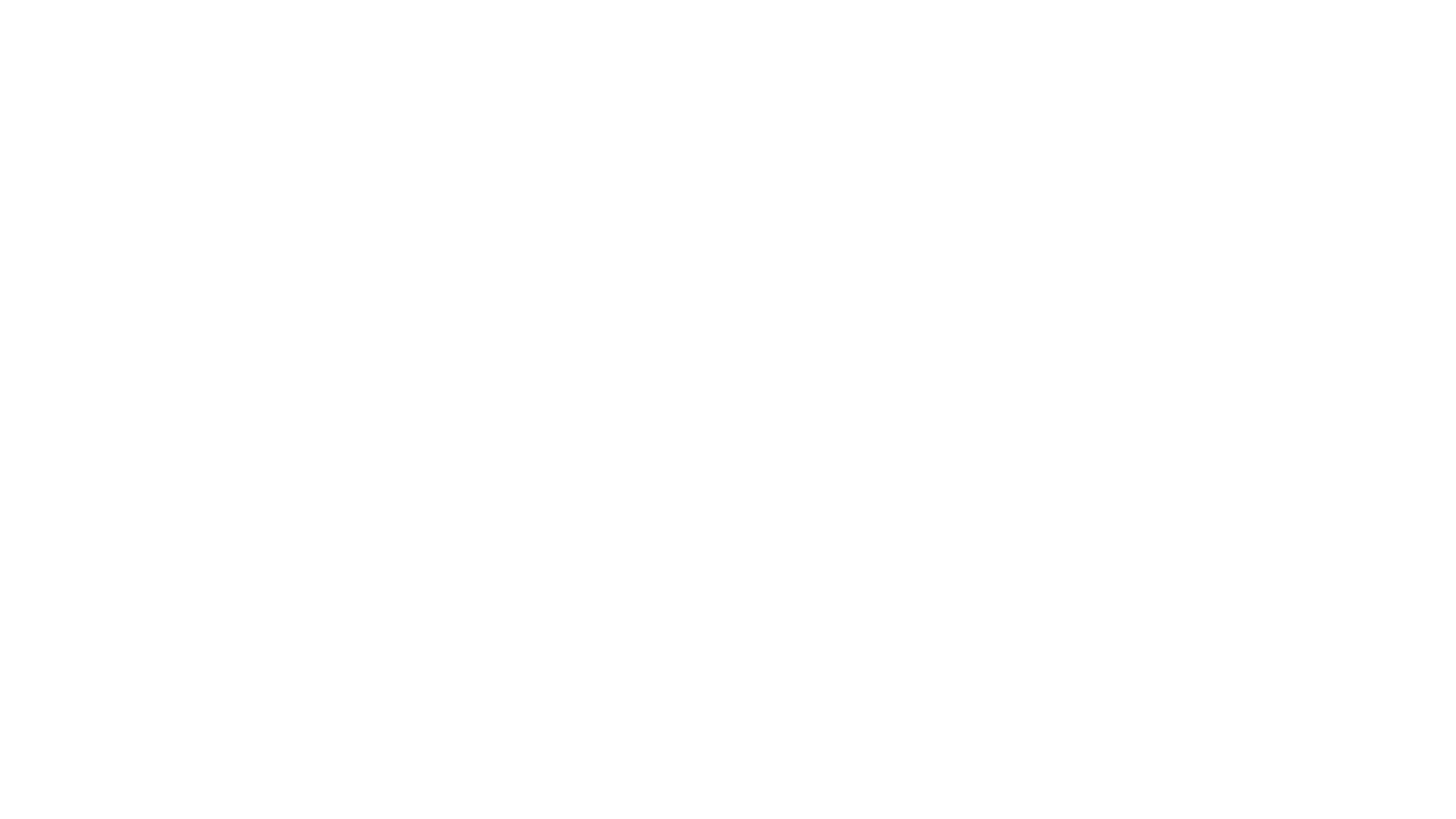
Фото Conny
Schneider
on Unsplash
Schneider
on Unsplash
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— По-моему, то, о чем вы говорите применительно к Западу, —это прогресс цивилизации и, может быть, бытовой культуры, но не духовности, не высокой человеческой культуры.
Где современная великая западная литература? Какие культурные ценности создали сегодня Европа, Соединенные Штаты Америки?
У меня сложилось впечатление, что к огромному сожалению во всем западном мире громадный духовный кризис. Это цивилизация потребления, а не духовности. Кризис западной цивилизации, к которой Россия сегодня относится,— это кризис потребления, когда целью становится съесть как можно больше. Это потребительская цивилизация.
С. П. КАПИЦА:
— И она сама себя убивает.
Д. А. ГРАНИН:
— Но это не только Запад, это и мы тоже.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Мы часть этого!
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Ключевой вопрос состоит в следующем: все ли можно обменять на деньги, измерить деньгами или все-таки есть какие-то вещи, которые не переводятся в материальный эквивалент, которые обмениваются только сами на себя.
Сейчас на нас навалилась беда: финансовый и экономический кризис. Посмотрите газеты, телевидение — другой темы нет, все рухнуло. Как будто катастрофа космического масштаба нависла над планетой! Экономика важна, но сегодня она имеет тенденцию подчинить себе все. Принципиальный вопрос: как оградить некоторые области человеческого существования — культуру, науку, межчеловеческие отношения — от разлагающего влияния рыночных механизмов?
Г. М. РЕЗНИК:
— Мне кажется, вопрос о природе совести, проблемах морали и нравственности трансформировался в вопрос: «Что с нами происходит, куда идем?». Они, конечно, связаны, но не идентичны. Совесть— чувство сугубо личное, интимное. Поле ее проявлений — разрыв между сущим и должным. Проблема в категории должного. Мир — объективный, в котором живем, и субъективный — тот, который живет внутри нас, — противоречивы.
Ностальгия об утрате вековых традиций непродуктивна. Вернуться в прежние времена не дано. Сексуальная революция, молодежная субкультура, Интернет — объективные данности, сами по себе они не являются разрушителями нравственности и совести, но заставляют иначе выстраивать отношения между личностью и властью. В демократическом правовом государстве человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признавать, соблюдать и защищать их — обязанность государства.
С. П. КАПИЦА:
— Все-таки деньги, к счастью, только средство для достижения иных, куда более высоких, целей. Я занялся демографией, когда возникла идея: надо заниматься демографией, а не деньгами. И выяснилось, что единственная универсальная мера всего — это люди. И экономику надо выражать через людей.
Есть китайцы — нация, которая точно не все измеряет деньгами. По крайней мере не делает этого поспешно и сиюминутно. Там кое-чего точно за деньги не купишь. Мне почему-то казалось, что у них это связано с особым почтением к старшим.
— По-моему, то, о чем вы говорите применительно к Западу, —это прогресс цивилизации и, может быть, бытовой культуры, но не духовности, не высокой человеческой культуры.
Где современная великая западная литература? Какие культурные ценности создали сегодня Европа, Соединенные Штаты Америки?
У меня сложилось впечатление, что к огромному сожалению во всем западном мире громадный духовный кризис. Это цивилизация потребления, а не духовности. Кризис западной цивилизации, к которой Россия сегодня относится,— это кризис потребления, когда целью становится съесть как можно больше. Это потребительская цивилизация.
С. П. КАПИЦА:
— И она сама себя убивает.
Д. А. ГРАНИН:
— Но это не только Запад, это и мы тоже.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Мы часть этого!
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Ключевой вопрос состоит в следующем: все ли можно обменять на деньги, измерить деньгами или все-таки есть какие-то вещи, которые не переводятся в материальный эквивалент, которые обмениваются только сами на себя.
Сейчас на нас навалилась беда: финансовый и экономический кризис. Посмотрите газеты, телевидение — другой темы нет, все рухнуло. Как будто катастрофа космического масштаба нависла над планетой! Экономика важна, но сегодня она имеет тенденцию подчинить себе все. Принципиальный вопрос: как оградить некоторые области человеческого существования — культуру, науку, межчеловеческие отношения — от разлагающего влияния рыночных механизмов?
Г. М. РЕЗНИК:
— Мне кажется, вопрос о природе совести, проблемах морали и нравственности трансформировался в вопрос: «Что с нами происходит, куда идем?». Они, конечно, связаны, но не идентичны. Совесть— чувство сугубо личное, интимное. Поле ее проявлений — разрыв между сущим и должным. Проблема в категории должного. Мир — объективный, в котором живем, и субъективный — тот, который живет внутри нас, — противоречивы.
Ностальгия об утрате вековых традиций непродуктивна. Вернуться в прежние времена не дано. Сексуальная революция, молодежная субкультура, Интернет — объективные данности, сами по себе они не являются разрушителями нравственности и совести, но заставляют иначе выстраивать отношения между личностью и властью. В демократическом правовом государстве человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признавать, соблюдать и защищать их — обязанность государства.
С. П. КАПИЦА:
— Все-таки деньги, к счастью, только средство для достижения иных, куда более высоких, целей. Я занялся демографией, когда возникла идея: надо заниматься демографией, а не деньгами. И выяснилось, что единственная универсальная мера всего — это люди. И экономику надо выражать через людей.
Есть китайцы — нация, которая точно не все измеряет деньгами. По крайней мере не делает этого поспешно и сиюминутно. Там кое-чего точно за деньги не купишь. Мне почему-то казалось, что у них это связано с особым почтением к старшим.
Фото Kateryna Hliznitsova on Unsplash
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— У них вектор ценностей в другую сторону направлен. Они не против новаций, но в той мере, в какой на это получается санкция со стороны предшествующих поколений. Почтение к родителям — первое, с чего начинается человек. Оно задает трепетное отношение к прошлому и движение к новому лишь в той мере, в какой новое является продолжением и совершенствованием прошлого.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
—У меня есть свое представление о том, что происходит у нас в стране.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— У них вектор ценностей в другую сторону направлен. Они не против новаций, но в той мере, в какой на это получается санкция со стороны предшествующих поколений. Почтение к родителям — первое, с чего начинается человек. Оно задает трепетное отношение к прошлому и движение к новому лишь в той мере, в какой новое является продолжением и совершенствованием прошлого.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
—У меня есть свое представление о том, что происходит у нас в стране.
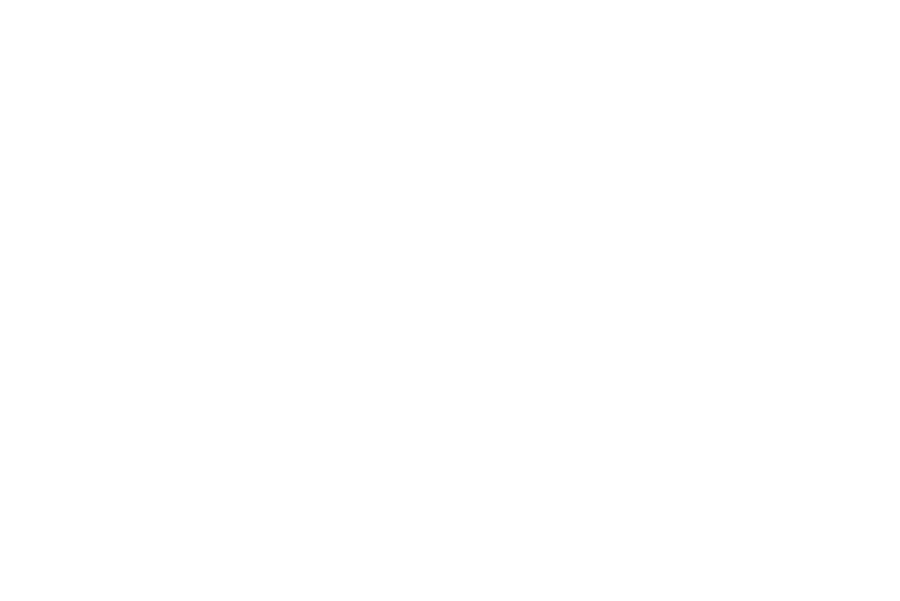
И я бы его сформулировал так: мы сегодня испытываем на себе опыт неудачной модернизации. Надо сказать, что и в Европе, и в Азии, и в целом ряде других регионов есть очень сильное стремление к модернизации. Взять, к примеру, образование. Мы думаем, что если переведем образование на систему «бакалавр — магистр», то сразу решим все проблемы. Станем, как они. И в этом смысле и Фурсенко, и Греф, и многие другие наши практики ведут себя, как стиляги в одноименном фильме, недавно вышедшем на экраны. Там молодые люди декларируют, что они не похожи на других и очень хотят быть, как американцы, а потом один из них едет в США на стажировку (это 1950-е годы), возвращается и говорит своему приятелю: «У меня для тебя плохие новости: там нет стиляг». Наши «стиляги» ведут нас куда-то, в какое-то сообщество, которого на самом деле не существует. И это порождает огромное количество проблем.
И у Советского Союза было много неприятнейших черт. Руководили страной невежественные люди, которые корежили интеллигенцию, не смогли осуществить модернизацию, проиграли соревнование с Западом. Но все-таки в СССР действовала система, которая провозглашала гуманистические ценности, хотя и деформировала их, превращая порой в пустые лозунги. Но были официально провозглашенные идеалы. А сейчас мы оказываемся не там и не сям, без корней и с «модернизацией», которая ведет к очередному провалу.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
—Прежде всего следует осознать одну важнейшую истину исторического существования народа: ныне живущее поколение не может быть судьей по отношению к предыдущим. Нет у него такого права, прежде всего нравственного. «Не судите, да не судимы будете». Это применимо не только к индивидуальной этике, но и к социальной; не только к взаимоотношениям личностей, но и к взаимоотношениям поколений. Это не значит, что мы не должны критически анализировать уроки прошлого, действия наших предков. Можем и должны, но во вторую очередь и в определенной нравственной тональности. Прежде же всего наше отношение к прошлому и предыдущим поколениям должно быть благодарным — за то, что они сделали возможным наше существование. За то, что передали нам эстафету исторического развития.
Вообще-то говоря, зачем нам так сильно волноваться о будущем и прошлом?! Следующие поколения будут, надо думать, не глупее нас. Предки наши, конечно, ошибались, но это вовсе не значит, что мы, оказавшись на их месте, справились бы с проблемами лучше. Такая расфокусированность общественного внимания является в значительной мере способом уйти от нашей собственной ответственности за историю, страну, народ. Прошлое не следует оценивать — о нем нужно рассказывать и его надо продолжать. За будущее не стоит тревожиться — его надо строить, воплощать в своих решениях и действиях.
Давайте взглянем на проблему вот с какой стороны. Мы живем в новой России около 20 лет. Это почти срок жизни одного поколения. Какую мы получили страну — по уровню экономического развития, степени образованности населения, интеллектуальному и научному потенциалу, по численности населения, продолжительности жизни? И во что мы ее превратили? По всем этим показателям мы пошли резко вниз. Из передовой державы, даже сверхдержавы, мы превратились во что-то второразрядное. Что мы можем предъявить как наши достижения, заслуги перед отчизной? Вот как надо ставить вопрос. Надо спросить с себя, а не прятаться за мнимое разоблачение прошлого и лицемерную заботу о будущем.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Думается, человек может решительно осуждать только самого себя. Прошлое осуждать нельзя: мы часто не знаем всех исторических обстоятельств, степени достоверности фактов и не понимаем психологии людей иной эпохи. Можно только сожалеть, испытывать горечь и сострадание.
Скорбь и сожаление конструктивны. Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: прошлое — проект будущего. Так почему же мы себя лишаем этой опоры?
Каждый народ должен выбирать выдающиеся факты, примеры своих подвигов, людей, которые совершали благородные поступки. Американцы должны сожалеть, что уничтожили семь миллионов индейцев, но не на этом основывается нация. Мы в России должны сожалеть, что у нас в Гражданской войне погибли миллионы, что наших людей использовали как пушечное мясо в Великой Отечественной. Это огромное горе. Но мы не можем опираться на него в построении будущего.
С. П. КАПИЦА:
— Мне кажется, первым делом надо понять, что происходит. Сейчас такого понимания нет. Я на протяжении последних нескольких недель участвовал в трех крупных международных дискуссиях, их объединяло одно: все участники в большой растерянности.
Д. А. ГРАНИН:
— У Конфуция есть выражение: «Прежде чем клясть тьму, надо зажечь свою свечу». Мы никак не можем зажечь свою свечку, мы все время клянем тьму, причем чужую.
И у Советского Союза было много неприятнейших черт. Руководили страной невежественные люди, которые корежили интеллигенцию, не смогли осуществить модернизацию, проиграли соревнование с Западом. Но все-таки в СССР действовала система, которая провозглашала гуманистические ценности, хотя и деформировала их, превращая порой в пустые лозунги. Но были официально провозглашенные идеалы. А сейчас мы оказываемся не там и не сям, без корней и с «модернизацией», которая ведет к очередному провалу.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
—Прежде всего следует осознать одну важнейшую истину исторического существования народа: ныне живущее поколение не может быть судьей по отношению к предыдущим. Нет у него такого права, прежде всего нравственного. «Не судите, да не судимы будете». Это применимо не только к индивидуальной этике, но и к социальной; не только к взаимоотношениям личностей, но и к взаимоотношениям поколений. Это не значит, что мы не должны критически анализировать уроки прошлого, действия наших предков. Можем и должны, но во вторую очередь и в определенной нравственной тональности. Прежде же всего наше отношение к прошлому и предыдущим поколениям должно быть благодарным — за то, что они сделали возможным наше существование. За то, что передали нам эстафету исторического развития.
Вообще-то говоря, зачем нам так сильно волноваться о будущем и прошлом?! Следующие поколения будут, надо думать, не глупее нас. Предки наши, конечно, ошибались, но это вовсе не значит, что мы, оказавшись на их месте, справились бы с проблемами лучше. Такая расфокусированность общественного внимания является в значительной мере способом уйти от нашей собственной ответственности за историю, страну, народ. Прошлое не следует оценивать — о нем нужно рассказывать и его надо продолжать. За будущее не стоит тревожиться — его надо строить, воплощать в своих решениях и действиях.
Давайте взглянем на проблему вот с какой стороны. Мы живем в новой России около 20 лет. Это почти срок жизни одного поколения. Какую мы получили страну — по уровню экономического развития, степени образованности населения, интеллектуальному и научному потенциалу, по численности населения, продолжительности жизни? И во что мы ее превратили? По всем этим показателям мы пошли резко вниз. Из передовой державы, даже сверхдержавы, мы превратились во что-то второразрядное. Что мы можем предъявить как наши достижения, заслуги перед отчизной? Вот как надо ставить вопрос. Надо спросить с себя, а не прятаться за мнимое разоблачение прошлого и лицемерную заботу о будущем.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Думается, человек может решительно осуждать только самого себя. Прошлое осуждать нельзя: мы часто не знаем всех исторических обстоятельств, степени достоверности фактов и не понимаем психологии людей иной эпохи. Можно только сожалеть, испытывать горечь и сострадание.
Скорбь и сожаление конструктивны. Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: прошлое — проект будущего. Так почему же мы себя лишаем этой опоры?
Каждый народ должен выбирать выдающиеся факты, примеры своих подвигов, людей, которые совершали благородные поступки. Американцы должны сожалеть, что уничтожили семь миллионов индейцев, но не на этом основывается нация. Мы в России должны сожалеть, что у нас в Гражданской войне погибли миллионы, что наших людей использовали как пушечное мясо в Великой Отечественной. Это огромное горе. Но мы не можем опираться на него в построении будущего.
С. П. КАПИЦА:
— Мне кажется, первым делом надо понять, что происходит. Сейчас такого понимания нет. Я на протяжении последних нескольких недель участвовал в трех крупных международных дискуссиях, их объединяло одно: все участники в большой растерянности.
Д. А. ГРАНИН:
— У Конфуция есть выражение: «Прежде чем клясть тьму, надо зажечь свою свечу». Мы никак не можем зажечь свою свечку, мы все время клянем тьму, причем чужую.
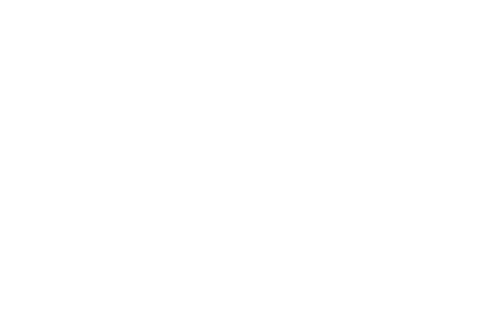
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Когда я писал книгу об академике Лихачеве, был поражен одним его высказыванием: человеческое общество и культура на самом деле развиваются не по законам дарвинизма.
По Дарвину, выживает сильнейший. И когда культура сталкивается с дикостью, вроде бы дикость каждый раз побеждает. Но в конечном счете все же оказывается, что сколько ни вытаптывай культуру, в истории человечества гуманистическое начало неуклонно берет верх и возрастает. Этот тезис можно назвать законом Лихачева — неуклонное возвышение гуманистического начала.
ФОТО из архива редакции
— Когда я писал книгу об академике Лихачеве, был поражен одним его высказыванием: человеческое общество и культура на самом деле развиваются не по законам дарвинизма.
По Дарвину, выживает сильнейший. И когда культура сталкивается с дикостью, вроде бы дикость каждый раз побеждает. Но в конечном счете все же оказывается, что сколько ни вытаптывай культуру, в истории человечества гуманистическое начало неуклонно берет верх и возрастает. Этот тезис можно назвать законом Лихачева — неуклонное возвышение гуманистического начала.
ФОТО из архива редакции
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Откуда берется совесть и мораль (а совесть — наиболее концентрированное и интимное выражение морали), нет ясного ответа. Многие пытались на него ответить — Платон, Кант, но ответа нет.
Между тем совесть, мораль должны быть вынесены в особый разряд. Они в человеке, в его существовании, поведении занимают уникальное, единственное в своем роде место. Я бы так сказал: это последняя апелляционная инстанция, выше которой нет. Поэтому, скажем, совесть и бессовестность не оцениваются, не классифицируются по критерию «истина или заблуждение». Об истине и заблуждении можно говорить, когда мы какое-то утверждение соотносим с какой-то реальностью и выясняем, насколько мы точны в ее описании. Что касается морали, то здесь вы такую предметность не найдете. С этих размышлений начинал Сократ. Он задумался над тем, что выражают понятия добродетели, справедливости, прекрасного, которые люди считают самыми важными и к которым они все стремятся. Что стоит за ними, что соответствует им в реальном мире? Сократ обнаружил, что в окружающем мире нет ничего такого, отражением чего являлись бы эти моральные категории. Никто не может сказать, откуда они берутся.
Г. М. РЕЗНИК:
— Думается, нужно ввести одно уточнение. Любое явление, имеющее место в посюстороннем мире, может стать предметом научного исследования. Совесть, проявления которой несомненны, не представляет в данном отношении никакого исключения. Поэтому научная теория и стремится объяснить возникновение и развитие совести из экономических, социокультурных и психологических условий жизни человека. А научная теория может быть только эволюционной, поскольку не допускает сверхъестественное. Другое дело, что эволюционизм не справляется с объяснением совести. И, кроме того, неизбежно приводит к выводу об отрицании абсолютных моральных ценностей и, таким образом, относительности всякой морали, с чем не может примириться наше нравственное чувство.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Есть духовное восхождение общества от дикости к человечности. Есть неуклонное взращивание духовности в обществе. Есть люди более совестливые, чем прочие. И они в состоянии изложить свои критерии деятельности, донести их до общества. Есть писатели, художники. В традиционном обществе роль нравственных наставников выполняли пожилые люди, которые могли неопытным юношам сказать, что правильно, что неправильно с позиции опыта предшествующих поколений.
Мораль и нравственность постепенно наращивались и в таком приращенном виде передавались следующим поколениям. Я бы себе это представил и как борьбу ценностей. Совесть — это всегда выбор между различными ценностями.
Мне думается, что совесть — это еще и процесс, когда человек себя сознательно приобщает к какой-то более высокой шкале ценностей. А ценностную шкалу все-таки задают родители, учителя, литература, задает совокупность общественных отношений, которая побуждает человека соотнести себя с той или иной общественной шкалой ценностей.
Если мы полагаемся только на закон, то коррупцию нам не искоренить никогда. Человек, сознательно нарушающий закон, совести не имеет и морального осуждения не боится: он ловкий, он считает, что обойдет закон. Для исполнения закона одного страха недостаточно. Нужна еще совесть.
Г. М. РЕЗНИК:
— С этим не поспоришь. Эффективность «голых», социально и морально не подкрепленных законодательных санкций, уголовной репрессии невысока. Вообще многое в нашей жизни должно оставаться в рамках неформального общественного договора, регулироваться на уровне частной коммуникации. Беда в том, что фактически уничтожено понятие «репутация», исчезла «нерукопожатность», некогда убийственная для членов профессиональных сообществ и малых групп.
С. П. КАПИЦА:
— Ранее существовало огромное количество табу, которые очень точно регулировали жизнь. Некоторые ограничения трактуются как нечто врожденное. Я думаю, что самые простые из них уже генетически «запаяны» в нашей памяти, в поведении. И есть великий принцип морали: вы не должны делать в отношении других того, чего бы вы не хотели, чтобы делали по отношению к вам.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Золотое правило. Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Что касается правового регулирования, когда общественная воля приобретает форму обязательного для каждого индивида внешнего предписания, то оно, наверное, тоже имеет свои пределы. Оно не очень нужно там, где общественные формы жизни имеют отрегулированный веками устойчивый, неизменный характер. И оно малоэффективно тогда, когда общество находится в режиме постоянных и все убыстряющихся изменений.
Д. А. ГРАНИН:
— Мне кажется, что мораль и нравственность — вневременные субстанции. В том-то и сложность жизни.
Когда-то у нас пытались внедрить моральный кодекс строителя коммунизма. Есть вещи, установленные еще в начале христианства, а до него — в учении Моисея, какие-то нравственные постулаты, система запретов, которые существовали и существуют. И мне хочется думать, что они должны и будут существовать всегда. Конечно, темпы развития осложняют ситуацию с нравственностью, но совесть, мораль — это та система табу, та внутренняя существующая в нас система, которая роднит нас со всем прошлым человечеством, без этого связь времен была бы разорвана.
Иначе человечество вообще не сможет существовать, если каждый раз новые технологии, системы информации и прочее все будут менять.
Совесть — это бессознательное.
— Откуда берется совесть и мораль (а совесть — наиболее концентрированное и интимное выражение морали), нет ясного ответа. Многие пытались на него ответить — Платон, Кант, но ответа нет.
Между тем совесть, мораль должны быть вынесены в особый разряд. Они в человеке, в его существовании, поведении занимают уникальное, единственное в своем роде место. Я бы так сказал: это последняя апелляционная инстанция, выше которой нет. Поэтому, скажем, совесть и бессовестность не оцениваются, не классифицируются по критерию «истина или заблуждение». Об истине и заблуждении можно говорить, когда мы какое-то утверждение соотносим с какой-то реальностью и выясняем, насколько мы точны в ее описании. Что касается морали, то здесь вы такую предметность не найдете. С этих размышлений начинал Сократ. Он задумался над тем, что выражают понятия добродетели, справедливости, прекрасного, которые люди считают самыми важными и к которым они все стремятся. Что стоит за ними, что соответствует им в реальном мире? Сократ обнаружил, что в окружающем мире нет ничего такого, отражением чего являлись бы эти моральные категории. Никто не может сказать, откуда они берутся.
Г. М. РЕЗНИК:
— Думается, нужно ввести одно уточнение. Любое явление, имеющее место в посюстороннем мире, может стать предметом научного исследования. Совесть, проявления которой несомненны, не представляет в данном отношении никакого исключения. Поэтому научная теория и стремится объяснить возникновение и развитие совести из экономических, социокультурных и психологических условий жизни человека. А научная теория может быть только эволюционной, поскольку не допускает сверхъестественное. Другое дело, что эволюционизм не справляется с объяснением совести. И, кроме того, неизбежно приводит к выводу об отрицании абсолютных моральных ценностей и, таким образом, относительности всякой морали, с чем не может примириться наше нравственное чувство.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Есть духовное восхождение общества от дикости к человечности. Есть неуклонное взращивание духовности в обществе. Есть люди более совестливые, чем прочие. И они в состоянии изложить свои критерии деятельности, донести их до общества. Есть писатели, художники. В традиционном обществе роль нравственных наставников выполняли пожилые люди, которые могли неопытным юношам сказать, что правильно, что неправильно с позиции опыта предшествующих поколений.
Мораль и нравственность постепенно наращивались и в таком приращенном виде передавались следующим поколениям. Я бы себе это представил и как борьбу ценностей. Совесть — это всегда выбор между различными ценностями.
Мне думается, что совесть — это еще и процесс, когда человек себя сознательно приобщает к какой-то более высокой шкале ценностей. А ценностную шкалу все-таки задают родители, учителя, литература, задает совокупность общественных отношений, которая побуждает человека соотнести себя с той или иной общественной шкалой ценностей.
Если мы полагаемся только на закон, то коррупцию нам не искоренить никогда. Человек, сознательно нарушающий закон, совести не имеет и морального осуждения не боится: он ловкий, он считает, что обойдет закон. Для исполнения закона одного страха недостаточно. Нужна еще совесть.
Г. М. РЕЗНИК:
— С этим не поспоришь. Эффективность «голых», социально и морально не подкрепленных законодательных санкций, уголовной репрессии невысока. Вообще многое в нашей жизни должно оставаться в рамках неформального общественного договора, регулироваться на уровне частной коммуникации. Беда в том, что фактически уничтожено понятие «репутация», исчезла «нерукопожатность», некогда убийственная для членов профессиональных сообществ и малых групп.
С. П. КАПИЦА:
— Ранее существовало огромное количество табу, которые очень точно регулировали жизнь. Некоторые ограничения трактуются как нечто врожденное. Я думаю, что самые простые из них уже генетически «запаяны» в нашей памяти, в поведении. И есть великий принцип морали: вы не должны делать в отношении других того, чего бы вы не хотели, чтобы делали по отношению к вам.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Золотое правило. Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Что касается правового регулирования, когда общественная воля приобретает форму обязательного для каждого индивида внешнего предписания, то оно, наверное, тоже имеет свои пределы. Оно не очень нужно там, где общественные формы жизни имеют отрегулированный веками устойчивый, неизменный характер. И оно малоэффективно тогда, когда общество находится в режиме постоянных и все убыстряющихся изменений.
Д. А. ГРАНИН:
— Мне кажется, что мораль и нравственность — вневременные субстанции. В том-то и сложность жизни.
Когда-то у нас пытались внедрить моральный кодекс строителя коммунизма. Есть вещи, установленные еще в начале христианства, а до него — в учении Моисея, какие-то нравственные постулаты, система запретов, которые существовали и существуют. И мне хочется думать, что они должны и будут существовать всегда. Конечно, темпы развития осложняют ситуацию с нравственностью, но совесть, мораль — это та система табу, та внутренняя существующая в нас система, которая роднит нас со всем прошлым человечеством, без этого связь времен была бы разорвана.
Иначе человечество вообще не сможет существовать, если каждый раз новые технологии, системы информации и прочее все будут менять.
Совесть — это бессознательное.
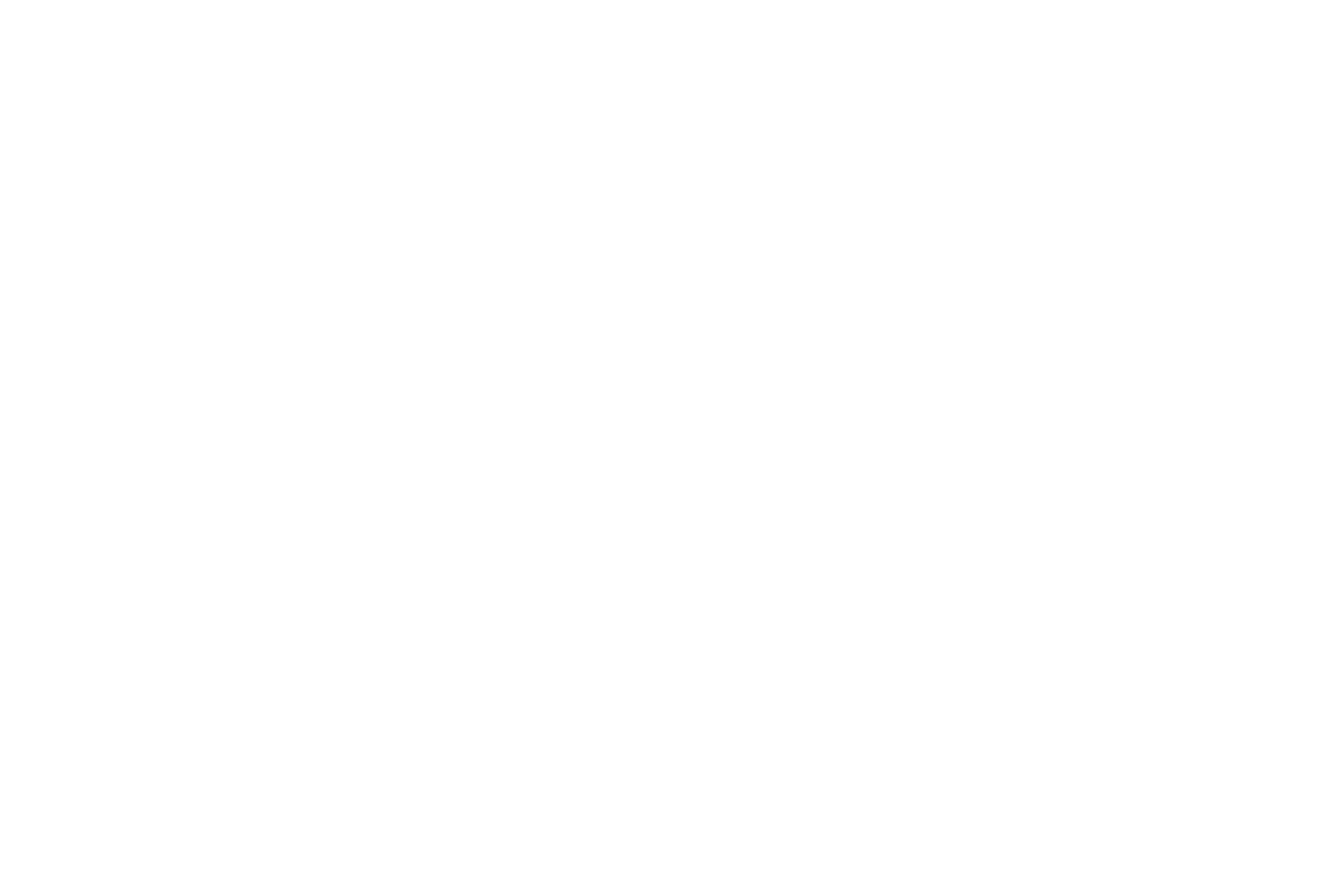
фото Romain
Virtuel on Unsplash
Virtuel on Unsplash
Г. М. РЕЗНИК:
— Я бы уточнил: в регуляции поведения человека совесть — не бессознательное, а до-сознательное. Она сразу «выскакивает», это мгновенная реакция отторжения от безнравственного, непорядочного. Потом подключается рассудок, начинает совестью манипулировать, ее убаюкивать, примирять наше поведение с реалиями жизни, защитные механизмы включаются.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— У людей есть подсознание, где проходят процессы, которые мы не контролируем. Это известно. Когда мы ощущаем беспокойство, то в конце концов чаще всего начинаем понимать почему, но беспокойство — это и биологический механизм. Какие бы чувства и ощущения человек ни испытывал, даже самые высокие — любовь, например, — при этом действует и разум, и неосознанное, биологическое. Мы никогда до конца не понимаем, почему мы любим и почему перестали любить. Пытаемся найти объяснение, но любовь — это как чудо, оно приходит неизвестно откуда и уходит непонятно куда.
Может быть, совесть возникла в тот момент, когда человек обрел разум, ведь разум — это страшное оружие. Как только человек возвысился над животными, появилась совесть — как механизм, который регулирует отношения между людьми. Разумный человек без совести — исключительно опасное существо, представляющее особую угрозу для себе подобных. Поэтому совесть должна была появиться одновременно с разумом — как регулятор отношений, отсюда это золотое правило: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой.
Действительно, совесть связана со свободой, выступает регулятором свободы. По-настоящему свободным может быть только культурный человек, потому что запреты и ограничения — это та суть, которая отделяет культуру от дикости.
Культура несет в себе опоры для совести. Механизмы передачи культуры от поколения к
поколению весьма близки к механизмам взращивания совести. И, как мне представляется, на разломах человеческой истории, когда происходят резкие изменения общественных отношений, происходят и сбои в передаче культурных ценностей, торжествует бессовестность.
Я однозначно связываю мораль с культурой. Считаю, что культура в широком смысле — важнейший фактор поддержания морали. Развитие культуры не должно зависеть от экономики — наоборот, культура должна определять развитие экономики и устанавливать законы для нее; не рынок должен определять, как существует культура, а культура должна диктовать условия рынку.
Д. А. ГРАНИН:
— Но что понимать под словом «культура»? Для меня уничтожение деревни, деревенской жизни является катастрофой русской культуры. Деревня несла в себе огромную культуру: взаимоотношений с людьми, милосердия, правил поведения, вежливости. Деревня содержала блаженных, нищих, дураков. Деревня не запирала избы, там не было воровства, и так далее. Там сохранялись фольклор, частушки, народное творчество. Все это закончилось. И потери эти больные. Они большие, невозместимые или частично возмещаемые культурой книжной, театральной, музыкальной.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Поддержание культурного разнообразия и красоты — глубоко практичные вещи.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Культура в конечном счете это и есть совесть, вынесенная вовне. Это и есть то, как мы работаем, стремимся понять, что это такое. Конечно, когда говорится, что совесть — это тайна, то это вовсе не означает, что отрицаются, скажем, механизмы воспитания, роль культуры, роль средств массовой информации, коммуникации и т. д. Конечно, это одна и та же реальность, но все-таки во всем этом есть последнее звено — человек, который принимает решения и действует. Здесь много говорили про совесть, запреты. А почему запреты, я вас спрашиваю? Почему совесть — это именно запреты? Потому что запрет или решение не делать что-то — это способ существования, где личность может иметь абсолютную власть. Она может действовать как Бог.
Г. М. РЕЗНИК:
— Совесть потому и таит в себе тайну, что в каждом отдельном случае нельзя объяснить, почему она подала свой голос, причем в противоречии с, казалось бы, хорошо известным всем обликом человека и явно ему во вред. Загадка возникает тогда, когда не «благодаря», а «вопреки». Совесть связана со свободой — свободой воли. И если в душе у человека живут те же библейские заповеди, голос совести его не обманет. Станет нарушать — будет мучиться.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Свобода должна идти по жизни рядом с самоограничением, проистекающим из уважения к другим. Например, университет должен иметь адекватное представление о том, каким требованиям должен отвечать социально успешный человек, и давать студентам образование, позволяющее добиться прочного, стабильного успеха. Та моральная смута, которая сегодня имеет место в обществе, пройдет, и опять восторжествуют культура и нравственность. Мы должны противостоять бескультурью, хаосу, потокам непристойности, разрушению морали и воспитывать профессионалов: таких людей, которые не только владеют профессией, но и являются людьми культуры.
Я хочу еще сказать о массовом производстве: если оно правильно поставлено — это огромное благо. Культурные ценности доходят до людей, возвышают их и делают более счастливыми. Но производство теперь все чаще берет на себя функцию распространения дешевой и вредной продукции в ущерб культуре. И человека втягивают в пагубный процесс, как наркомана.
Маркс писал в свое время, что потребности производятся так же, как и продукты. Производитель теперь начинает взращивать в нас потребителя низкокачественного продукта, потому что его производить дешевле. То, что мы сегодня видим по телевидению, — продукция для идиотов. Вы посмотрите: ни одной новой телевизионной формы не создано за весь постсоветский период. Телебоссы скупили на Западе хлам и платят самим себе миллионы долларов за его повтор, тиражирование. Вы удивитесь, но единственная новая оригинальная программа, которая сделана в России за последние 15 — 20 лет, — это «Дом-2»... Если юный человек не читал хороших книг, то у него перед глазами всего лишь жизненный опыт его родителей и сверстников.
С. П. КАПИЦА:
— И чудовищный опыт телевидения.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Внешние знаки приличия или неприличия меняются, они подвижны. И в этом плане у каждого времени свои стандарты. Но только видя, как меняются стандарты, мы можем зафиксировать моральную реальность. И в чем коренной порок нашей сегодняшней реальности? Культурная реальность — образование, литература, кино, телевидение — включена в систему частного предпринимательства, бизнеса, в систему потребительской гонки. А сфера культуры должна бы существовать и развиваться по своим законам. Освободите ее от этой зависимости. Я — об изначальной иерархии ценностей.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Я думаю, что во внутреннем строении культуры есть ядро и периферия. Культура в этом смысле неоднородна и неравноценна. Одни символы играют глубинную ценностную роль, другие — второстепенную, периферийную. В культуре есть ценности базовые, основополагающие, например десять заповедей в христианстве. Кстати, мораль разных религий оказывается очень схожей. Фундамент морали в любой культуре примерно одинаковый — базовые ценности. Если мы их убираем, рушатся основания культуры, вся культура.
И есть некая периферия символов, которая выполняет иные функции. Вокруг них, например, образуются субкультуры.
С. П. КАПИЦА:
— Вообще запреты и нормы — вещь интересная. В Англии есть специальная служба, которая следит за нормативностью языка в средствах массовой информации, в том числе и электронных. Там существует социальная ответственность журналистских кругов и людей, управляющих телевидением. Во Франции есть министерство франкофонии, которое поддерживает французский язык.
Д. А. ГРАНИН:
— Здесь важна роль интеллигенции. Интеллигенция как носитель культуры, каких-то традиций — это хорошо. Но главное все же — оппозиционность бессовестности.
— Я бы уточнил: в регуляции поведения человека совесть — не бессознательное, а до-сознательное. Она сразу «выскакивает», это мгновенная реакция отторжения от безнравственного, непорядочного. Потом подключается рассудок, начинает совестью манипулировать, ее убаюкивать, примирять наше поведение с реалиями жизни, защитные механизмы включаются.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— У людей есть подсознание, где проходят процессы, которые мы не контролируем. Это известно. Когда мы ощущаем беспокойство, то в конце концов чаще всего начинаем понимать почему, но беспокойство — это и биологический механизм. Какие бы чувства и ощущения человек ни испытывал, даже самые высокие — любовь, например, — при этом действует и разум, и неосознанное, биологическое. Мы никогда до конца не понимаем, почему мы любим и почему перестали любить. Пытаемся найти объяснение, но любовь — это как чудо, оно приходит неизвестно откуда и уходит непонятно куда.
Может быть, совесть возникла в тот момент, когда человек обрел разум, ведь разум — это страшное оружие. Как только человек возвысился над животными, появилась совесть — как механизм, который регулирует отношения между людьми. Разумный человек без совести — исключительно опасное существо, представляющее особую угрозу для себе подобных. Поэтому совесть должна была появиться одновременно с разумом — как регулятор отношений, отсюда это золотое правило: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой.
Действительно, совесть связана со свободой, выступает регулятором свободы. По-настоящему свободным может быть только культурный человек, потому что запреты и ограничения — это та суть, которая отделяет культуру от дикости.
Культура несет в себе опоры для совести. Механизмы передачи культуры от поколения к
поколению весьма близки к механизмам взращивания совести. И, как мне представляется, на разломах человеческой истории, когда происходят резкие изменения общественных отношений, происходят и сбои в передаче культурных ценностей, торжествует бессовестность.
Я однозначно связываю мораль с культурой. Считаю, что культура в широком смысле — важнейший фактор поддержания морали. Развитие культуры не должно зависеть от экономики — наоборот, культура должна определять развитие экономики и устанавливать законы для нее; не рынок должен определять, как существует культура, а культура должна диктовать условия рынку.
Д. А. ГРАНИН:
— Но что понимать под словом «культура»? Для меня уничтожение деревни, деревенской жизни является катастрофой русской культуры. Деревня несла в себе огромную культуру: взаимоотношений с людьми, милосердия, правил поведения, вежливости. Деревня содержала блаженных, нищих, дураков. Деревня не запирала избы, там не было воровства, и так далее. Там сохранялись фольклор, частушки, народное творчество. Все это закончилось. И потери эти больные. Они большие, невозместимые или частично возмещаемые культурой книжной, театральной, музыкальной.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Поддержание культурного разнообразия и красоты — глубоко практичные вещи.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Культура в конечном счете это и есть совесть, вынесенная вовне. Это и есть то, как мы работаем, стремимся понять, что это такое. Конечно, когда говорится, что совесть — это тайна, то это вовсе не означает, что отрицаются, скажем, механизмы воспитания, роль культуры, роль средств массовой информации, коммуникации и т. д. Конечно, это одна и та же реальность, но все-таки во всем этом есть последнее звено — человек, который принимает решения и действует. Здесь много говорили про совесть, запреты. А почему запреты, я вас спрашиваю? Почему совесть — это именно запреты? Потому что запрет или решение не делать что-то — это способ существования, где личность может иметь абсолютную власть. Она может действовать как Бог.
Г. М. РЕЗНИК:
— Совесть потому и таит в себе тайну, что в каждом отдельном случае нельзя объяснить, почему она подала свой голос, причем в противоречии с, казалось бы, хорошо известным всем обликом человека и явно ему во вред. Загадка возникает тогда, когда не «благодаря», а «вопреки». Совесть связана со свободой — свободой воли. И если в душе у человека живут те же библейские заповеди, голос совести его не обманет. Станет нарушать — будет мучиться.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Свобода должна идти по жизни рядом с самоограничением, проистекающим из уважения к другим. Например, университет должен иметь адекватное представление о том, каким требованиям должен отвечать социально успешный человек, и давать студентам образование, позволяющее добиться прочного, стабильного успеха. Та моральная смута, которая сегодня имеет место в обществе, пройдет, и опять восторжествуют культура и нравственность. Мы должны противостоять бескультурью, хаосу, потокам непристойности, разрушению морали и воспитывать профессионалов: таких людей, которые не только владеют профессией, но и являются людьми культуры.
Я хочу еще сказать о массовом производстве: если оно правильно поставлено — это огромное благо. Культурные ценности доходят до людей, возвышают их и делают более счастливыми. Но производство теперь все чаще берет на себя функцию распространения дешевой и вредной продукции в ущерб культуре. И человека втягивают в пагубный процесс, как наркомана.
Маркс писал в свое время, что потребности производятся так же, как и продукты. Производитель теперь начинает взращивать в нас потребителя низкокачественного продукта, потому что его производить дешевле. То, что мы сегодня видим по телевидению, — продукция для идиотов. Вы посмотрите: ни одной новой телевизионной формы не создано за весь постсоветский период. Телебоссы скупили на Западе хлам и платят самим себе миллионы долларов за его повтор, тиражирование. Вы удивитесь, но единственная новая оригинальная программа, которая сделана в России за последние 15 — 20 лет, — это «Дом-2»... Если юный человек не читал хороших книг, то у него перед глазами всего лишь жизненный опыт его родителей и сверстников.
С. П. КАПИЦА:
— И чудовищный опыт телевидения.
А. А. ГУСЕЙНОВ:
— Внешние знаки приличия или неприличия меняются, они подвижны. И в этом плане у каждого времени свои стандарты. Но только видя, как меняются стандарты, мы можем зафиксировать моральную реальность. И в чем коренной порок нашей сегодняшней реальности? Культурная реальность — образование, литература, кино, телевидение — включена в систему частного предпринимательства, бизнеса, в систему потребительской гонки. А сфера культуры должна бы существовать и развиваться по своим законам. Освободите ее от этой зависимости. Я — об изначальной иерархии ценностей.
А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ:
— Я думаю, что во внутреннем строении культуры есть ядро и периферия. Культура в этом смысле неоднородна и неравноценна. Одни символы играют глубинную ценностную роль, другие — второстепенную, периферийную. В культуре есть ценности базовые, основополагающие, например десять заповедей в христианстве. Кстати, мораль разных религий оказывается очень схожей. Фундамент морали в любой культуре примерно одинаковый — базовые ценности. Если мы их убираем, рушатся основания культуры, вся культура.
И есть некая периферия символов, которая выполняет иные функции. Вокруг них, например, образуются субкультуры.
С. П. КАПИЦА:
— Вообще запреты и нормы — вещь интересная. В Англии есть специальная служба, которая следит за нормативностью языка в средствах массовой информации, в том числе и электронных. Там существует социальная ответственность журналистских кругов и людей, управляющих телевидением. Во Франции есть министерство франкофонии, которое поддерживает французский язык.
Д. А. ГРАНИН:
— Здесь важна роль интеллигенции. Интеллигенция как носитель культуры, каких-то традиций — это хорошо. Но главное все же — оппозиционность бессовестности.
Читайте также
больше полезных статей по этой теме:
В ежовых рукавицах держат строгие преподаватели студентов, и из ветреной молодежи выходит толк. В ежовых рукавицах держат своих подчиненных властные начальники, и бывает, что коллектив показывает фантастическую производительность труда. Что за рукавицы такие волшебные?
Вы заметили, что в метро у нас ездят не пожилые люди, а «лица пожилого возраста», которые не просто вежливы, а «взаимно вежливы». А если с петербуржцами случается что-то нехорошее во время поездки, то они не погибают, а получают «травмы, несовместимые с жизнью».